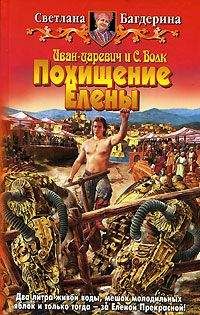Совладав с инерцией, Иван едва успел подставить фолиант под сокрушительный удар шестопером («и откуда он его взял, Господи?!..»), и тут же второй ватажник, дико воя, налетел на него с кулаками, повалил на землю, схватил за горло, сдавил что было мочи и… обмяк, придавив царевича своей огромной немытой тушей. Тут же рядом с ним, мгновение спустя, рухнул кто-то еще. По запаху царевич догадался, что это был последний громила. Оставлять Волка без внимания у себя за спиной было не лучшим решением в их жизни.
В полуобморочном состоянии («это я от вони!») Иван был извлечен, почищен и посажен спиной к дереву. Через некоторое время на ветерке в голове у него прояснилось, и он смог встать, покачиваясь и потирая побаливавшую все-таки шею. Серый молча заканчивал упаковку их багажа. Убитых не было видно, но под знаменитым шиповниковым кустом вырос большой холм из лапника. И не только, догадался царевич.
На шорох Волк обернулся, увидел, что Иван уже на ногах, и физиономия его расплылась в широчайшей улыбке. Он шагнул к царевичу, протянул ему руку, но, не дожидаясь ответной реакции, облапил его и стиснул изо всех сил.
— Спасибо, Иванко, ой, спасибо, — от полноты чувств мял он царевича и хлопал по спине так, что Иван стал серьезно опасаться за целостность своих ребер. — Как это ты его — раз-раз — и готово, я и понять ничего не успел! Ай, силен богатырь! И надо же было додуматься — и чем! — книжицей прибил такого лиходея! Ай, молодец! Ну, просто герой!
Иван насилу вырвался из лап Серого, весь красный, жаркий, то ли от объятий отрока, то ли от похвалы.
— Знал бы ты, как я испугался, — неожиданно для самого себя, потупив взор, признался он: природная честность царевича яростно восстала против распотешившегося самолюбия. Сказал он так, и голову повесил, ожидая от Волка укора или насмешки, на которую он бывал так скор. И ушам своим не поверил, когда в ответ услышал:
— А уж я-то как…
— Что?
— Я говорю, знал бы ты как Я испугался! Думал, ну, все, конец тебе, Волченька, пришел. Допрыгался, милок. Так что, спасибо, тебе, Иван-царевич, выйдет из тебя настоящий лукоморский витязь, — и он, лукаво подмигнув, кивнул на громадный том, оставшийся последним на траве.
Немного помявшись, Иван откашлялся и решился:
— Сергий?
— Что, царевич?
— А про какое яблоко разбойники тебя пытали? — и тут же быстро добавил: — Но если это секрет, ты не говори. Я не обижусь.
— Да никакого секрета теперь уже нет, — пожал плечами Волк. — Вот, смотри, — и он, отступив на пару шагов в лес, тут же вернулся назад с кожаным мешочком, размером с большое яблоко, в руках. Развязав тесемки, он вытряхнул на ладонь большое яблоко. Самое настоящее большущее румяное яблочко.
Или нет? Или не совсем настоящее? Или совсем не настоящее? Настоящим оно только казалось при первом, поверхностном взгляде. Но стоило посмотреть на него более внимательно, как сразу становилось ясно, как поначалу его можно было принять за настоящее. Более искусной работы Иван не видел за всю свою (правда, короткую и бедную событиями и новыми впечатлениями, но зато все-таки царскую) жизнь. Его можно было сравнить разве что с золотыми яблоками со знаменитой батюшкиной яблони, но они были полностью золотыми, а у этого один бочок сверкал рубином, черешок — черненное золото, а листик был изумрудным, тонким, прозрачным, и все прожилочки были видны, как на живом.
— Ах, красота-то какая!.. — восторженно выдохнул царевич и, не сводя с яблочка глаз, медленно, как во сне, протянул к нему руку, но тут же вскинул вопрошающий взгляд на Волка: — Можно?
— Бери, бери, — добродушно кивнул Серый.
Яблоко было холодным и тяжелым. Налюбовавшись вволю, Иван осторожно опустил яблочко обратно в мешочек, затянул тесемки и отдал Сергию.
— Откуда оно у тебя?
— Это не мое. Это Ярославны. Разбойники похитили его у нее, а я вернуть подрядился.
— Те самые?… — царевич не закончил вопроса, но Серый и так понял, о ком шла речь.
— Те самые. И еще атаман, Хорек этот. Только сам-то он в личности не смог за мной прийти, — и Волк хитро ухмыльнулся.
— А-а, — понимающе протянул царевич. — А кто такая эта Ярославна?
— А она и есть тот самый знающий человек, который нам поможет отыскать твою жар-птицу. А приходится она мне сестрой. До ее…
— Нам? — переспросил Иван, боясь поверить в эту оговорку.
— Ну да, нам, — подтвердил, не моргнув глазом, Сергий. — Ведь если я пойду с тобой, ты меня не прогонишь?
— Да что ты! Что ты! Конечно нет! Это очень хорошо, что ты со мной пойдешь! Я наоборот очень хотел, но не знал, как попросить… То есть… Ну, я думал, что ты…
— Ну, вот. А меня, оказалось, и просить не надо. Сам напросился. Видишь, как все ладненько вышло, — и, широко улыбаясь, Сергий хлопнул Ивана по плечу. — Ну, давай, царевич, пакуй свое оружие, — и он снова кивнул на фолиант, — да пойдем. До вечера мы до Ярославны добраться должны, а то не хочется мне по этакой чаще в потемках пробираться, не знаю, как тебе.
В потемках пробираться им все же пришлось, так как с такой поклажей (а Волк не захотел оставлять ничего, собираясь в ближайшем городе или деревне получить за Ивановы вещи неплохой барыш), да через лес, даже по тропе, быстро передвигаться оказалось просто невозможно. Поэтому к избушке Ярославны они прибыли уже далеко затемно. Несколько раз, когда заросли становились еще более густыми и непроходимыми и царевич переставал ощущать тропинку под ногами, ему казалось, что они заблудились, и тогда он предлагал Сергию сделать привал до утра, но каждый раз Волк, молвив что-то вроде «не боись, не пропадем» выводил их маленький отряд на новую дорожку, и Ивану оставалось только стараться держаться к Серому как можно ближе, чтобы не остаться в кромешной тьме совсем одному.
Маленький Ярославнин домик находился на опушке леса и был со всех сторон обнесен плетнем. На штакетинах сушились пузатые корчаги. За домом виднелась какая-то сарайка. Больше при свете луны, выглянувшей на пару минут из своего укрытия в облаках, разобрать ничего не получилось, да и, откровенно говоря, Ивану, уставшему и измученному, было далеко все равно. Теперь, поскольку они добрались до человеческого жилья, задачей номер один перед Иваном стало определение местонахождения какого-нибудь тихого (даже не обязательно теплого и мягкого) уголка, где можно было бы упасть и не вставать до завтра. Желательно, до вечера. Царевич чувствовал, что если такое место не будет срочно найдено, то, несмотря на все свое старание не ударить в грязь лицом перед Волком (это была единственная движущая сила, остававшаяся еще в распоряжении Иванушки), он рухнет и заснет прямо вот здесь, под корчагами.
Ярославна встретила их на пороге, и от неяркого, но неожиданного света из распахнувшейся вдруг двери они на мгновение ослепли. Иван покачнулся, но чьи-то невидимые руки поддержали его и быстро избавили от мешков и оружия, и Ярославна, отпустив слуг, широким жестом пригласила путников войти в дом.
Переступив через низкий порожек, друзья оказались прямо в горнице, лицом к лицу с коренастым столом, плотно уставленным невероятным количеством снеди. В ушате со льдом охлаждалась пятилитровая бутыль кваса. У печки томился антикварный самовар. Из чугунков, сковородок и утятниц исходил умопомрачительный дух, а заморские блюда — салаты — казалось, просто умоляли: «Съешь нас!».
Ничем иным, кроме умопомрачения, царевич не мог объяснить полную потерю памяти на определенном отрезке времени, а когда она вернулась, он обнаружил себя бессильно откинувшимся на спинку стула перед столом, заваленным грудой пустых чашек, тарелок, блюдец, кружек и кубков. Как неприступная ледяная вершина надо всем над этим сверкала при свете… («Господи, да откуда тут свет берется, что-то в толк я не возьму?..»), короче, сверкала пустая бутыль. Рядом, с чувством исполненного долга, расположился самовар. И какая-то неопознанная ребристая бутылка зеленого стекла. Вытянув шею, у противоположного подножия посудной горы он разглядел блаженно улыбавшегося Серого, развалившегося точно в такой же позе. Позади стояла Ярославна, прислонившись спиной к печке и скрестив руки на груди. С лукавой добродушной улыбкой она поглядывала на гостей. Ей на вид было лет двадцать пять — тридцать, и она была красива той спокойной лукоморской красотой, которая не бросается в глаза, но если запоминается — то на всю жизнь. Причем что-то в глазах Ярославны говорило, что жизнь эта будет полна опасностей и непредсказуемо коротка.
Царевичу внезапно стало стыдно, так как он не мог вспомнить, поздоровался ли он, и был ли представлен сестре Сергия. Многолетняя привычка дворцового воспитания требовала отдать дань простым правилам вежливости и этикета, но при этом Иван боялся оказаться в дурацком положении, повторяя то же самое второй раз. Похоже, Ярославна угадывала его душевные муки, но отнюдь не торопилась прийти на помощь. Но пока царевич раздумывал, как ему поступить (хоть и скорость протекания его мыслительных процессов была настолько мала, что ей можно было со спокойной совестью пренебречь), проблема решилась сама собой.