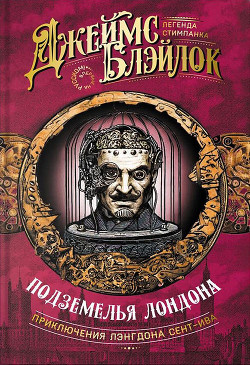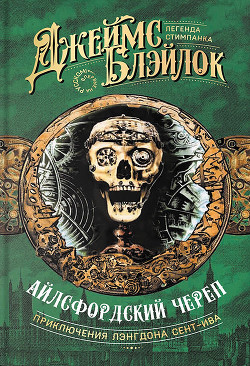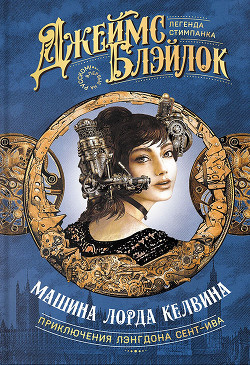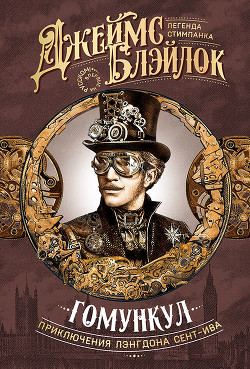Из аппаратуры ударил фонтан искр, и в воздухе разнесся запах горелой dura mater [6], напомнив мистеру Клингхаймеру, что он еще не завтракал. Аура вокруг привязанного пациента потускнела и, мерцая, исчезла. Мистер Клингхаймер снял очки, осторожно уложил их в карман пиджака и спросил:
— Наш пациент скончался, доктор Пиви?
— По-видимому. Пьюл, скажите нам, о чем размышляет мистер Симмонс.
— Он умолк, — ответил Пьюл.
— То есть он умер? — спросил Клингхаймер.
— Если и так, это не имеет значения, — отозвался Пиви, — но да, полагаю, он бесповоротно мертв. Эксперимент был в высшей степени познавательным, а что касается этого человека, то он, бесспорно, гораздо счастливее в своем нынешнем состоянии.
— Учитывая, что однажды я окажусь в сходном положении, мне сложно согласиться с вашим определением счастья.
— Вы окажетесь в другом кресле, мистер Клингхаймер. Ничего похожего на это! — Пиви расстегнул ремень на шее мертвеца, и тело свесилось вперед, открывая шею и спину, залитые кровью. — Это из-за удаления части черепной коробки, — объяснил доктор. — Наш подопытный просто истек кровью. Я задел небольшую артерию, которую пытался высвободить. Да, кровила она обильно. Семья этого пациента сейчас путешествует по югу Франции. К их возвращению мы избавимся от тела.
— А как насчет вас, мистер Пьюл? — поинтересовался Клингхаймер. — Что чувствуете вы? Не ослабила ли вас смерть этого человека — в каком-либо смысле? Вы почувствовали его смерть?
— Нет. Он просто исчез. Мгновение назад думал о своем ребенке, который утонул, а в следующее занавес упал и его разум накрыла тьма.
Лицо Пьюла, угреватое и худое, отливало странным оттенком зеленого — результатом диеты из светящегося грибка.
— Как строго соблюдается диета мистера Пьюла, доктор Пиви?
— Он получает грибок на обед и ужин. Тушеный, сырой, выжатый в сок, вареный и жареный. Его кровь почти на четверть — грибной бульон, если вы понимаете, о чем я. Он никогда не был настолько готов — и, похоже, молодеет с каждым днем, если я не ошибаюсь.
— Радостно это слышать. По крайней мере, тут все идет как надо. Есть ли у нас другой субъект для добровольной краниотомии [7]?
— По большому счету есть, — заверил Пиви. — Но скоро нам понадобится больше. Очень немногих пациентов можно расходовать, не возбуждая подозрений.
— Мы найдем вам необходимое число подопытных. Подозрения для нас большое неудобство, да. Но улицы захлестывает чрезмерное человечество, отдельных представителей которого легко сдернуть с мостовой незаметно для глаз сотоварищей. Увы.
Тут мистер Клингхаймер поднялся со стула. Он был высок, дюйма на три выше шести футов, и на первый взгляд казалось, что ему лет шестьдесят или даже семьдесят. Однако в нем чувствовались немалая сила и энергия, и двигался он с проворством куда более молодого человека. Кожа мистера Клингхаймера отсвечивала зеленым, хотя и не так отчетливо, как у Уиллиса Пьюла. И еще он почти беспрестанно улыбался — маска для всех его знакомых; друзей у Клингхаймера не было.
— Думаю, вы мечтаете о каникулах, доктор Пиви. Маленькая вылазка в Кент, на сутки или даже скорее на один долгий день, а? Мне нужны ваши замечательные дарования. Полагаю, вы найдете это времяпрепровождение воодушевляющим и к тому же сулящим выгоду. Гарантирую вам пару голов, крайне интересных голов, и ни малейшего риска.
IV
В ЛОМБАРДЕ
Желтое сияние газовых ламп, шипевших над Пич-аллей, узким переулком, проходившим мимо рынка Биллингсгейт, к западу от Таможни, меркло в тумане, по мере того как он спускался к реке от Лоуэр-Темз-стрит. Переулок пребывал в извечной тени — свет падал сюда лишь отвесно в полдень или в ясные ночи, когда луна ненадолго всходила прямо над громоздившимися домами. Даже в разгар лета не хватало солнца, чтобы высушить грязь, скапливающуюся между булыжниками. Воздух густел от непрестанной вони с рыбного рынка, а при низком приливе — от тяжелого запаха речного ила с берега Темзы, которая протекала футах в шестидесяти от тупика, замыкавшего Пич-аллей. Призрачные верхушки мачт, скользившие по реке, едва виднелись сквозь водяную взвесь над крышами паба «Козел и капуста».
Бомонт стоял перед ломбардом недалеко от начала переулка. В кожаном кошеле у него лежали четверо карманных часов. Трое из них он позаимствовал у владельцев, а последние забрал у доктора Игнасио Нарбондо, который вряд ли станет по ним скучать, ибо нынче покоится среди жаб. Цепочка, прилагавшаяся к этим часам, была сделана из серебра, а рубин на булавке оказался настоящим. И то и другое Бомонт припрятал отдельно, включив в клад, который собирал на старость, полагая, что отойдет от дел, когда пальцы его уже не будут такими ловкими. Настоящих часов было трое, поскольку одни Бомонт превратил в простенький автомат. Их корпус-луковица напоминал округлое тельце какого-то насекомого. Бомонт покрыл его множеством слоев черного лака, а поверх нанес ярко-красным пигментом пятна и точности той же формы и цвета, что у божьей коровки с четырьмя точками, хотя во много раз крупнее. Механическую божью коровку можно было завести поворотом головки, и тогда ее суставчатые проволочные ножки начинали совершать короткие плавательные движения — в результате игрушка принималась шагать в произвольном направлении по полу, поворачивая головку из стороны в сторону, покуда не кончался завод. Продавать эту вещицу Бомонт не пытался, ведь он смастерил ее только для того, чтобы провести время, да и механизм часов не стоил ремонта.
На карлике высилась старая бобровая шапка, купленная в лавке скорняка на Пикадилли около десяти лет назад, когда он работал часовым мастером за хорошую плату. Бомонт обладал замечательно гибкими пальцами и зоркими глазами. С тех пор, однако, жизнь катилась под откос. Последним стало место кучера у доктора Игнасио Нарбондо — там ему тоже нравилось, потому что Бомонт любил лошадей. Бобровая шапка добавляла ему фут роста, делая его выше четырех футов. Дополняла картину борода той же формы и размера, как бы отражавшая шапку в удивительном, перевернутом виде, так что морщинистое лицо карлика казалось помещенным в центр мохнатого вытянутого яйца. Нынче удача отвернулась от Бомонта: год назад он лишился работы и пока не сыскал ничего подходящего. Нынче ему приходилось с трудом зарабатывать на жизнь ловкостью рук и жить в жалких углах Лаймхауса, что, впрочем, было лучше, чем спать на вонючих приступках в затхлых сырых переулках вроде этого.
Ростовщика Бомонту рекомендовали как надежного. Лавка была незаконной, судя по отсутствию обычных золотых шаров над входом, и это значило, что ему не станут задавать ненужных вопросов, когда он выложит часы — все трое, между прочим, самого лучшего качества. В уличной витрине лавки лежали сокровища нижайшего сорта: щербатые фарфоровые чашки, иностранные монеты, пыльные стопки, смесь всяких безделушек и корзинка фаянсовых кукольных голов — жутких изделий с неподвижными глазами.
Сквозь грязное стекло Бомонту удалось разглядеть, что внутри лавки в корзинах для хмеля кучами свалена обувь, а с деревянных реек, вделанных в потолок, свисают десятки фартуков, халатов, шалей и старых пальто. Покупателей в лавке вроде не было, а владелец согнулся над своей конторкой. Взгляд Бомонта вернулся к мешанине вещей в витрине. Там лежала девятиклапанная четырехчастная немецкая флейта, отделанная филигранью из серебра и слоновой кости. Ее твердое дерево было отполировано пальцами до глянца. Карлик с вожделением уставился на инструмент, ведь его собственный, пусть не такой роскошный, был заложен несколько месяцев назад. Немецкие флейты не являлись ни редкими, ни дорогими даже для человека со скромными средствами. Однако Бомонт не мог себе этого позволить, сколько бы ему ни предложили за часы, стоившие нескольких дней тщательной работы. Последнее время он голодал и мерз так часто, что стал вести себя подобно муравью из басни: за каждый потраченный шиллинг должен был назавтра отложить два, даже если это означало голод в двухшиллинговые дни. Как бы то ни было, сегодня он уже съел в «Родуэй Коффи-хауз» свою порцию сыра с хлебом (мясо оказалось слишком дорогим), так что голод пока маячил в отдалении.