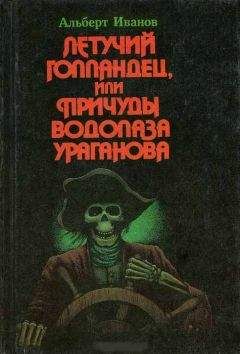— Весла-то зачем?.. — спросил Иван, хотя хотел спросить о другом.
— Мало ли что…
— Основательно устраиваешься.
Джек ничего не ответил, деловито выкладывая разные припасы.
— Надолго? — сострил Иван.
— Навсегда, — в тон ему ответил Джек.
Он был возбужден и все поглядывал на Ивана, зажигая лампу и прикуривая от нее. Суетливо достал из рюкзака две оловянные миски, две ложки, вынул было вилки, но сунул обратно. Руки у него подрагивали… Открыл банку тушенки. А потом, подумав, выудил из рюкзака большую, ноль семь, бутылку «Старки» и нашарил два стаканчика.
— Сохранил на обратный путь, — он потер ладони. Опять подумал и достал банку ананасового компота. — Хороший сегодня вечерок, хороший… — приговаривал он.
Иван изумленно смотрел на приготовления.
— День рождения у тебя, что ли?
— В точку попал, сынок. В точку… — пробормотал тот. — Словно заново родился… Отличный вечерок. Погудим сейчас. Живи одним днем! — воскликнул он, наливая водку в стаканы и гостеприимно приглашая к столу. — Кто знает, что будет завтра! Садись, чего стоишь?..
Мощными лапами он схватил его за плечи и резко усадил на табуретку:
— Ешь, пей, веселись!
— А ты?.. — струхнул Иван, стараясь не показать и виду.
— И я! — плюхнулся Джек на другую табуретку.
Он ни секунды не находил себе покоя. Двигал предметы на столе, перекладывал с места на место… «Наверняка в лодке у него еще бутылочка припрятана. Видать, здорово приложился, пока вещи собирал», — ободренно подумал Иван и, не ожидая нового приглашения, накинулся на еду, не забыв и про стаканчик.
Джек встал и, снова поглядывая на него, в приподнятом настроении расхаживал по сараю, бормоча:
— Сегодня твой день, веселись…
«Точно, — опять подумал Иван, — набрался, старый хрыч!»
— А ты чего ж? — вновь сказал, спохватившись, Иван.
— И я, — повторил Джек. Подскочил к столу и осушил свой стакан. — За тебя! — быстро налил и поднял снова. — Чтоб тебе легше жилось! Жизнь — она трудная.
— За тебя! — тоже поднял стакан Иван.
— И за меня, за меня… Как же без меня? — рассмеялся Джек. — У меня жизнь потрудней твоей будет! Тебе что, лежи себе полеживай, а мне… — он не договорил.
Под выпивку его поведение уже не казалось странным.
Джек, окосев, обнял Ивана за шею и прошептал на ухо:
— Тебе на меня жаловаться не придется. Я свое дело прочно знаю, большой стаж, но только ни-ни!.. — приложил он палец к губам и обернулся.
Ивана разбирал смех. Здоровяк, а забурел — с одной-то бутылки на двоих. Эк, разобрало!
За первой бутылкой последовала вторая…
Иван уже не удивлялся тому, что Джек, встав на цыпочки, вдруг вытащил из чердачного проема дюралевую раскладушку с плотным парусиновым низом. Он мог бы оттуда вынуть хоть цветной телевизор, Иван уже мало чему поражался.
Помнит он о том, что все-таки спрашивал: чья это, интересно, надпись на стене? И кто у входа похоронен, скажите на милость?.. «Тсс, — шипел спутник. — Умер, бедолага, умер. С тоски зачах, да еще воспаление легких… Смелый был человек, гордый вроде тебя. Пришлось его, чтоб не мучился… Тс-с!..»
Помнит еще Иван, как вознамерился было лечь на раскладушку, но этот бугай стащил за ноги и постелил ему одеяло у стены. «Теперь здесь будешь спать. Привыкай», — так, кажется, приказал он.
Проснулся Иван от солнечного луча, падавшего сквозь «бойницу» прямо на лицо. Отчего-то болели кисти рук. Он хотел поднять левую руку с часами, чтобы узнать время, но она оказалась на удивление тяжелой, и что-то зазвенело. Кисти были окольцованы наручниками!
Иван вскочил, цепь отбросила его к стене, одеяло путалось под ногами.
— Джек, — закричал он.
Дверь распахнулась и появился его спутник. За плечами висело ружье.
— Твоя работа? — сердито хохотнув, побренчал наручниками Иван; голова ныла болью от вчерашнего. — Что за шутки?!
Джек сурово посмотрел на него:
— В чем дело? Какие у вас жалобы? Завтрак… Обед в тринадцать ноль-ноль, — и захлопнул за собой дверь.
Снаружи скрежетнул засов. Еще вчера Иван мельком отметил, что засов почему-то там, а не изнутри, и подумал тогда: «Может, от зверья закрывают, когда уходят…»
— Джек! — в отчаянии прокричал он, мгновенно вспомнив прошлый вечер, надпись, выцарапанную на стене, покосившийся крест, туманные намеки спутника. — Пошутил, и хватит!
На его лицо упала тень, в бойнице показалось темное лицо Джека.
— С караульным разговаривать запрещено, — безучастным голосом произнес он и исчез.
В тишине раздавались шаги, он размеренно ходил вдоль стены у входа.
И потянулись дни и ночи, похожие одни на другие… Часы охранник отобрал.
— Пост по охране врагов народа сдан! — Пост по охране врагов народа принят! — слышался по утрам его голос за дверью.
Он удостаивал заключенного лишь короткими фразами по поводу завтрака, обеда и ужина, прогулок, утреннего туалета — приносил воду в тазике, — и «отправления естественных надобностей», как он выражался. В заключенном он не признавал никакого приятеля, знакомого — причем совершенно искренне. А однажды в сердцах случайно проговорился, что он никакой не Джек — что за чушь! — а Петр. Память о недавнем прошлом совершенно покинула его, и он обращался к пленнику на «вы», с равнодушием, в котором, однако, проскальзывала издевка.
Погода посвежела, он выдал заключенному его собственную телогрейку; без нее Иван, при любой погоде, никогда не ездил на рыбалку. Ватничек по ночам незаменим; так сказочный гусь: на одно крыло ложится, другим укрывается.
Петр теперь появлялся в туго подпоясанном солдатским ремнем военном бушлате, а то и в прорезиненном плаще поверх него. Лишь сапоги остались неизменными, он и прежде их носил. Где он хранил раньше свою амуницию? Возможно, где-то на острове или на том же чердаке, откуда достал раскладушку. Она не причудилась тогда Ивану, теперь он мог видеть ее всякий раз, когда Петр открывал дверь. Раскладушка стояла у кустов за входом. На ней охранник и спал под открытым небом, выматываясь от бессменных дежурств. Потом временами начало моросить, и он поставил палатку.
Когда, отомкнув оковы специальным ключом, охранник выводил Ивана под дулом ружья на прогулку, то твердо предупреждал:
— В случае побега — стреляю. Первый выстрел — в воздух.
Кормил жидким супом из концентратов, хлебом собственной выпечки из грубой муки, давал слабый несладкий чай, а уж воды вволю из озера — ставил у стены ведро, в нем плавала пластмассовая кружка.
Иван устал доказывать, кто он и как они сюда попали. К его словам, мольбам и даже плачу охранник относился недоверчиво-презрительно.
— Все вы так говорите, — отвечал он.
— Ну в чем, в чем я виноват?! — до хрипоты орал Иван.
— Сами знаете, — следовал ответ. — Невиновные сюда не попадают. — И, вспоминая, что находится на посту, резко добавлял: — Разговоры запрещены.
— А что еще запрещено? — разъярился как-то пленник.
Через полчаса неумолимый охранник приколол на стене написанный от руки лист со множеством пунктов. Запрещалось буквально все: нет необходимости перечислять… Особенно, до горьких слез, рассмешил Ивана пункт, воспрещающий встречу с родными, близкими и друзьями — до особого разрешения.
— Когда меня выпустят? — спрашивал пленник.
— Решит начальство.
— А когда оно решит?
— Когда придет.
— А когда придет? — настойчиво выпытывал Иван.
— Неизвестно, — коротко отвечал охранник и заканчивал привычными словами: — Разговоры запрещены.
Постепенно он сделал заключенному послабление: освободил одну руку и чуть удлинил цепь — теперь Иван вместо трех шагов у стены мог сделать побольше.
Что он только не предпринимал, лишь бы освободиться! Безуспешно пытался напасть на охранника и придушить цепью — тот был предельно начеку, физически гораздо сильнее и всегда вооружен.
Незаметно хотел раскачать железный болт, к которому прикована цепь, и выдернуть из стены — Петр заметил его тщетные потуги.
— Болт проходит бревно насквозь, с той стороны — гайка, — официальным тоном сообщил он.
Цепь же порвать было невозможно, легче оторвать саму руку.
После второго нападения с цепью на Петра, тот жестоко избил пленника, с придыханием говоря:
— Мразь… Скотина… Подонок, а туда же!
— Садист! Гестаповец!.. — кричал Иван.
— Все вы так говорите, — стандартно отвечал часовой, явно сошедший с ума.
Какие бы планы ни вынашивал томительными днями, вечерами и по ночам в беспокойном сне Иван, они лопались, как мыльные пузыри — столь же радужные и неуловимые.
Несмолкающие шаги за стеной теперь все чаще прерывались отдыхом часового днем в палатке — начал уставать, — но ни подкоп, ни побег через крышу прикованный пленник не мог устроить.