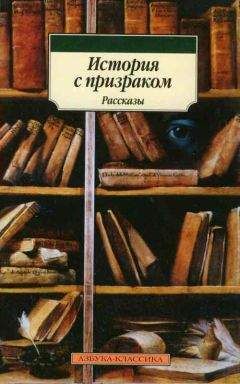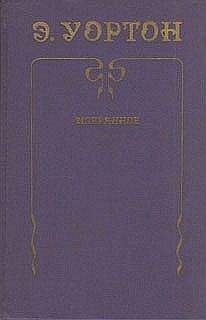Эдит Уортон
Торжество тьмы[1]
I
Было ясно, что сани из Веймора не приехали; и продрогший юный путешественник, который так рассчитывал поскорее сесть в них, когда сходил с бостонского поезда на узловой станции Нортридж, очутился один-одинешенек на открытой платформе, беззащитный перед натиском зимней ночи.
Хлеставший его ветер прилетел из обледенелых лесов и с заснеженных полей Нью-Гемпшира.[2] Казалось, он пересек безбрежные мили промерзшей тишины, наполнив их таким же холодным воем и отточив края о такой же безрадостный черно-белый пейзаж. Темный, всепроникающий, острый, как меч, он то оглушал, то атаковал свою жертву, словно матадор, который то взмахивает плащом, то вонзает бандерильи. Эта аналогия напомнила молодому человеку о том, что у него самого плаща нет, а пальто, в котором он успешно противостоял относительно умеренному бостонскому климату, на открытых ветру высотах Нортриджа показалось не толще бумажного листка. Джордж Фэксон отметил про себя, что назвали станцию на редкость удачно.[3] Она лепилась к открытому уступу над долиной, из которой взобрался поезд Фэксона, и ветер прочесывал ее стальными зубьями — путешественник так и слышал, как они скрежещут по деревянным стенам станционного здания. Других строений поблизости не было: деревня находилась гораздо дальше по дороге, и туда — поскольку сани из Веймора не приехали — Фэксону волей-неволей предстояло пробираться сквозь сугробы высотой в несколько футов.
Он прекрасно понимал, что произошло: хозяйка забыла, что он должен приехать. Фэксон был еще молод, но подобная печальная проницательность подкреплялась обширным опытом, и путешественник знал, что хозяева чаще всего забывают послать именно за теми гостями, которым труднее всего наскрести деньги на экипаж. Однако сказать, будто миссис Калми о нем забыла, было бы слишком прямолинейно. Воспоминания о подобных эпизодах, имевших место в прошлом, натолкнули Фэксона на мысль, что она, вероятно, велела горничной передать дворецкому, чтобы тот позвонил кучеру и велел ему передать одному из конюхов, чтобы тот (если, конечно, он больше никому не понадобится) съездил в Нортридж за новым секретарем; однако какой уважающий себя конюх не сумеет в такую ненастную ночь забыть подобный приказ?
Самым очевидным выходом из положения было пробиваться сквозь сугробы в деревню, а там найти сани, которые доставили бы путника в Веймор; но вдруг по прибытии к миссис Калми Фэксона забудут спросить, во сколько ему обошлась такая преданность долгу? Это тоже была одна из тех неприятностей, предусматривать которые он научился дорогой ценой, и обретенная таким образом прозорливость подсказывала ему, что дешевле будет переночевать в Нортриджской гостинице и известить миссис Калми о своем местонахождении по телефону. Фэксон уже склонился к этому решению и был готов доверить свой багаж рассеянному незнакомцу с фонарем, когда его надежды пробудил звон колокольчиков.
На станцию вкатили двое саней, и из первых выскочил молодой человек, укутанный в меха.
— Из Веймора? Нет, эти сани не из Веймора.
Это был голос юноши, запрыгнувшего на платформу, — голос настолько приятный, что он прозвучал для Фэксона утешением, несмотря на смысл сказанного. В тот же миг качнувшийся на ветру станционный фонарь бросил на говорившего мимолетный луч, и обнаружилось, что черты его лица находятся в самой отрадной гармонии с голосом. Молодой человек был очень белокур и очень юн (Фэксон решил, что ему вряд ли больше двадцати), однако его лицо, полное утренней свежести, было немного чересчур заостренным и тонким, как будто живой нрав соперничал в юноше с некоторым надрывом, вызванным телесной слабостью. Вероятно, Фэксон быстрее прочих замечал подобные мелочи, поскольку его собственный темперамент зависел от слегка расшатанных нервов, что, однако, как он полагал, делало его чувствительной натурой — и не более того.
— Вы ждали сани из Веймора? — продолжал вновь прибывший, стоя рядом с Фэксоном, словно стройная меховая колонна.
Секретарь миссис Калми объяснил, в чем заключались его затруднения, и его собеседник отмахнулся от них с пренебрежительным «Ох уж эта миссис Калми!», отчего молодые люди заметно приблизились к взаимопониманию.
— Так, значит, вы… — Юноша смолк и вопросительно улыбнулся.
— Новый секретарь? Да. Но сегодня вечером, очевидно, на письма отвечать не надо. — Смех Фэксона углубил единодушие, так стремительно возникшее между собеседниками.
Его друг тоже рассмеялся.
— Миссис Калми сегодня завтракала у моего дядюшки, — объяснил он, — и говорила, что вы должны приехать. Но за семь часов миссис Калми забудет что угодно.
— Что ж, — философски заметил Фэксон, — полагаю, что отчасти поэтому ей и нужен секретарь. А я всегда могу переночевать в Нортриджской гостинице, — заключил он.
— Нет, не можете! На той неделе она сгорела дотла.
— Ну надо же, вот черт! — сказал Фэксон, однако юмористическая сторона дела дошла до него раньше, чем мысль о неизбежных неудобствах. Все последние годы его жизнь была чередой неловких положений, к которым приходилось безропотно приспосабливаться, и он научился прежде извлекать из них хотя бы малую толику развлечения и лишь затем искать практический выход. — Ну, тогда здесь наверняка найдется у кого устроиться.
— Зато вас это не устроит. Кроме того, Нортридж отсюда в трех милях, а наш дом — в противоположной стороне — немного ближе. — Сквозь сумрак Фэксон различил, что его друг сделал жест, намереваясь представиться. — Меня зовут Фрэнк Райнер, и я живу у дяди в Овердейле. Я встречаю двух его друзей, которые через несколько минут прибудут из Нью-Йорка. Если вы не против подождать их, то, не сомневаюсь, Овердейл подойдет вам больше Нортриджа. Мы приехали из города всего на несколько дней, но дом всегда готов к приему толпы гостей.
— Но ваш дядюшка… — только и смог возразить Фэксон со странным чувством, что, как бы он ни был смущен, дальнейшие слова его невидимого друга развеют это смущение словно по волшебству.
— Ах, мой дядюшка — сами увидите! Я за него ручаюсь! Осмелюсь предположить, что вы о нем уже слышали — это Джон Лавингтон.
Джон Лавингтон! Едва ли можно было всерьез предполагать, будто кто-то о нем не слышал. Даже с такого незаметного наблюдательного поста, как должность секретаря миссис Калми, пропустить слухи о Джоне Лавингтоне, его деньгах, его картинах, его политическом влиянии, его благотворительной деятельности и его гостеприимстве было невозможно — как невозможно не расслышать гул водопада в безлюдных горах. Можно даже сказать, что единственным местом, где на Джона Лавингтона никто не ожидал наткнуться, было то безлюдье, которое сейчас окружало собеседников, по крайней мере в этот час величайшей его пустынности. Но как это было похоже на блистательно вездесущего Джона Лавингтона — и здесь обвести всех вокруг пальца.
— Да-да, я слышал о вашем дяде.
— Так вы ведь поедете с нами, правда? Ждать осталось всего пять минут, — настаивал юный Райнер тоном, который рассеивал все сомнения, попросту игнорируя их; и Фэксон сам не заметил, как принял приглашение так же легко, как оно было сделано.
Нью-йоркский поезд опоздал, и ждать его пришлось не пять минут, а все пятнадцать; и пока друзья расхаживали по обледенелой платформе, Фэксон начал понимать, почему ему показалось, что согласиться на предложение нового знакомого — естественнее некуда. Это произошло потому, что Фрэнк Райнер относился к числу тех счастливчиков, которые упрощают человеческое общение, излучая уверенность и добродушие. Фэксон заметил, что юноша добивается этого впечатления, не опираясь ни на какие дарования, кроме молодости, и не прибегая ни к каким ухищрениям, кроме искренности; а эти качества раскрывались в улыбке настолько обаятельной, что Фэксон, как никогда прежде, ощутил, чего может достичь природа, если ей вздумается привести внешность в соответствие с нравом.
Фэксон узнал, что молодой человек — единственный племянник и подопечный Джона Лавингтона, с которым и поселился после смерти матушки — сестры великого человека. Мистер Лавингтон, по словам Райнера, был для него «душа-человек» («Правда, понимаете, он со всеми такой»), а положение юноши, кажется, полностью соответствовало его характеру. Судя по всему, единственной тенью, омрачавшей его существование, была та самая телесная слабость, которую уже отметил Фэксон. Здоровье юного Райнера подтачивала чахотка, и болезнь уже зашла настолько далеко, что, по мнению самых известных светил, ссылка в Аризону или Нью-Мексико была неизбежна.
— Но дядюшка, к счастью, не стал паковать мне чемоданы, как поступило бы на его месте большинство, — он захотел выслушать другое мнение. Чье? А одного страшно умного типа, молодого доктора с прорвой новых идей, который просто посмеялся над затеей с моим отъездом и сказал, что мне будет совсем неплохо и в Нью-Йорке, если только я не буду злоупотреблять зваными обедами и время от времени стану кататься в Нортридж подышать свежим воздухом. Так что в ссылку я не поехал только благодаря дядиным стараниям, — а с тех пор как этот новый эскулап меня успокоил, я чувствую себя в сто раз лучше.