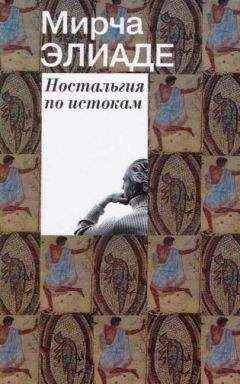Мирча Элиаде
Серампорские ночи
Никогда не забуду ночей, проведенных в обществе Богданова и Ванманена в Серампоре и Титагархе, под Калькуттой. Богданов, еще при царе десять лет прослуживший русским консулом в Тегеране и Кабуле, учил меня персидскому, и мы подружились, несмотря на разницу в возрасте и положении: он — известный ориенталист со множеством солидных публикаций, а я — зеленый юнец, школяр, зато тоже православный. Свою веру Богданов оберегал — как раньше среди мусульман Персии и Афганистана, которых любил, так и теперь среди индусов Бенгала, неприязнь к которым с трудом сдерживал. В отличие от него Ванманен обожал весь индийский мир. Он много лет занимал должности библиотекаря и секретаря Бенгальского азиатского общества, а перед тем — библиотекаря Теософского общества в Адьяре. Этот голландец средних лет приехал в Индию в ранней молодости, страна обворожила его и, как многих других, оставила у себя навсегда. Знаток тибетского языка, он, будучи пассивен и привержен вольготной жизни, опубликовал очень мало. Почти четверть века он вникал в язык исключительно ради собственного удовольствия, не испытывая никакого пиетета перед научными званиями. Жил бобылем и имел склонность, которую предпочитал не афишировать, — к оккультизму.
Как только завершался сезон дождей и спадала жара, мы становились неразлучными. С утра до вечера просиживали мы в библиотеке Азиатского общества на Парк-стрит, я с Богдановым за одним столом, Ванманен — в своем кабинете. Богданов делал сверку перевода из Мохамеда Дхары Шикуха, Ванманен заносил в каталог новые поступления тибетских манускриптов, приобретенных обществом в Сиккиме, а я бился над расшифровкой текста «Subbashita Samgraha», знаменитого своими закавыками.
Труд товарищей считался у нас делом святым, и, за исключением скупого обмена словами во время перекуров, мы были абсолютно безмолвны. Зато перед закрытием библиотеки мы, все трое, собирались в кабинете у Ванманена и уж там-то отводили душу в беседах, которые кончались иногда поздно ночью.
А калькуттские ночи в разгар осени приобретали ни с чем не сравнимую прелесть. В их воздухе соединялись истома Средиземноморья и звонкость Севера, дыхание вечности, которым пробирают душу моря Востока, и крепкие растительные благовония, исходящие из лона Индии. Я никогда не мог устоять перед чарами этих ночей и еще до того, как сошелся с моими учеными друзьями, любил по вечерам уходить из дому и, случалось, возвращался только под утро.
В то время я жил в северной части Калькутты, на Райпон-стрит, которая примыкает к главной артерии города, Уэллсли-стрит, в непосредственной близости от чисто индийского квартала. Обычно я выходил после ужина и, пройдя по узким улочкам, между скрытых цветущим кустарником стен, оставлял позади виллы местных англичан и проникал в лабиринт туземных лачуг, где жизнь не затихает круглые сутки. К сведению тех, кто не знает: в этом конце Калькутты жители никогда не спят. Двери их хибарок вечно стоят нараспашку, и как бы поздно ты ни возвращался домой, ты застанешь их за работой или за пением, за беседой или за игрой в карты, на пороге или прямо на тротуаре. Это квартал бедноты, и ночное оживление в нем так связано с музыкой, со звуками тамтама, как будто здесь правится вечный праздник. Карбидные лампы бросают вокруг резкий свет, дымок хуки и, сладковатый, опиума вливаются в неповторимый букет запахов индийского квартала: корица, молоко, вареный рис, медовые сласти, вынимаемые из кипящего масла, и всякая другая мешанина, которую невозможно определить и в которой порой, кажется, распознаешь влажность хлева, терпкость эвкалиптового листа, благовоние масел, приготовленных на аттаре, дуновение ладана от какого-то ночного цветка… Все то же — стоит только удалиться от европеизированного центра или от огромных парков, где буйствуют мощные, дурманящие голову испарения джунглей. Все то же, хотя на каждой улочке непременно встречаешь свой оттенок, иногда в резком контрасте с предыдущей композицией, и эта добавка в первый миг бьет в ноздри отчетливо на удивленье.
Для меня, раба калькуттских ночей, готового упиваться разнообразием их магии, чередуя праздничный шум туземных кварталов с полнейшим безлюдьем Озер или необъятного парка на Пустыре, где я забывал, что нахожусь в городе с миллионом и больше жителей, — для моих ночей компания Богданова и Ванманена была находкой. Вначале, пока мы еще не сошлись накоротке, мы ограничивались поздними прогулками по Эленбургскому шоссе, которое широкой полосой пересекает Пустырь. Вскоре мы начали осваивать Озера, откуда возвращались далеко за полночь.
Самым разговорчивым из нас был Ванманен: с одной стороны, он пользовался правом старшего, а с другой — прожил жизнь, богатую со всех точек зрения, и знал Индию, особенно Бенгал, как немногие европейцы. Он-то и пригласил нас однажды, ближе к вечеру, в Серампор, где у его приятеля, Баджа, было так называемое бунгало. Взял автомобиль в Калькуттском клубе, и мы тут же поехали — прямо из библиотеки, без всяких приготовлений.
Серампор и Титагарх, северные пригороды Калькутты, расположены милях в пятнадцати от нее: Серампор — на правом берегу реки Хугли, соединяющей Ганг с Бенгальским заливом, Титагарх — на левом. Два хороших шоссе, одно на Ховру, другое — на Читпур, связывают Калькутту с этими древними поселениями, от которых сегодня немного осталось. Бадж, приятель Ванманена, купил себе дом несколько в стороне от Серампора, где еще сохранились леса.
Дом был старый, его приходилось часто латать, да по-другому и быть не могло в бенгальском климате и в такой близости от джунглей. Это бунгало — как скромно называл его Бадж — напомнило мне, возникнув из-за пальм в наш первый приезд, заброшенные виллы Чандернагора, некогда славной французской колонии тоже в окрестностях Калькутты, — виллы начала прошлого века, за железными решетчатыми оградами, с деревянными беседками, давно заглушёнными лесом. Нет ничего более печального, чем прогулка по Чандернагору после захода солнца. Идешь под эвкалиптовыми деревьями, и от руин, еле различимых в полумраке среди неумолимых волн растительности, на тебя накатывает щемящее чувство печали. Нигде нет таких печальных руин, как в Индии, причем светло-печальных, тоже как нигде, потому что сквозь них прорастает, трепеща, жизнь, новая, нежнейшая, пронизанная музыкой трав, лиан, змей и светляков. Я любил блуждать по Чандернагору — там я заставал останки истории, навсегда отошедшей во всей остальной Индии. Колоритная и драматическая история первых европейских колонистов, французских первопроходцев, по морю обогнувших Африку и часть Индийского полуострова, чтобы вступить в схватку с джунглями, с малярией, со зноем, нигде не вспоминалась мне с такой притягательной грустью, как в Чандернагоре. Здесь я находил старинный пейзаж, окружавший славного пионера джунглей, воображал себе его легендарную жизнь авантюриста, — но все это оборачивалось суетой сует и всяческой суетой в ночи, набальзамированной эвкалиптовым цветом и чуть подсвеченной звездами и светляками.
Бадж купил бунгало у какого-то местного фермера-англичанина вскоре после войны и держал его в основном как убежище, где он мог укрыться, когда дела слишком уж одолевали его в Калькутте. Он был чудак, этот Бадж, старый холостяк, богач, заядлый и сказочно невезучий охотник, невезучесть его стала притчей во языцех, о чем нам первым делом доложил Ванманен.
В тот наш наезд в Серампор мы застали Баджа дома. Он приехал незадолго до нас, намереваясь провести в своем гнездышке пару дней. Мы нашли его на веранде, с толстой сигарой в зубах, вокруг роились москиты, которых он не удостаивал ни малейшим вниманием. Вид у него был усталый, и он еле поднялся нам навстречу, предложив подкрепиться виски со льдом. Затем, пока готовился ужин, мы с Богдановым оставили его и Ванманена беседовать на веранде, а сами пошли осматривать окрестности.
— Поосторожнее там, не вспугните змей! — крикнул нам вслед хозяин, когда мы сходили с лестницы.
Змей мы наверняка вспугнули, потому что, не разбирая пути, направились прямиком к опушке пальмовой рощи, где блестела вода. Издали мы не могли разобрать, что там такое, поскольку луна еще не взошла, а при звездах много не разглядишь. Приблизясь, мы обнаружили пруд, довольно большой и поросший лотосами. Подле нас бросала стройную тень на воду кокосовая пальма. Мы отошли всего на несколько сот метров от бунгало, чьи карбидные лампы отсюда казались подернутыми туманом из-за мириад ночных бабочек и эфемерид, — и вдруг оказались на берегу заколдованного озера, так глубока была тишина, столько тайны в воздухе.
— Будем надеяться, что истинный наш Господь и сегодня сохранит нас, — произнес Богданов, садясь на траву.
Я улыбнулся в темноте, прекрасно понимая, что он говорит серьезно. Богданов никогда не упоминал всуе Божьего имени. Я же — то ли не устал, то ли побоялся (был случай, когда после прогулки на лодке я приготовился выпрыгнуть на берег, но приятель удержал меня за руку и палкой убил в подсохшем иле маленькую зеленую змейку, как раз на том месте, куда я должен был ступить ногой), — так или иначе, я предпочел не следовать примеру Богданова и, стоя, прислонился к кокосовой пальме.