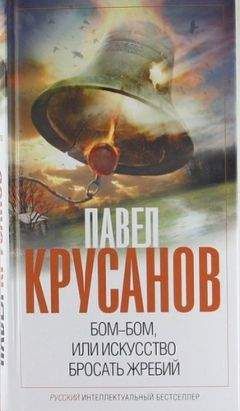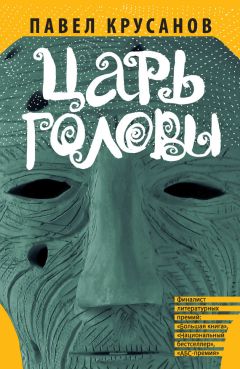— Силой земной он уже мёртв, а силой небесной здравствует, — заключил знахарь. — Не дело в ангельский промысел грешному Гришке встревать. — И добавил: — А ты, княгинюшка, на Куприяна Карфагенского князю мальца принесёшь, любезного наследника.
— Верно знаешь ли, что здорово будет дитя? — спросила с трепетом Ольга.
— Доподлинно, матушка, — заверил знахарь и, одарённый княгиней, подался назад в Заонежье.
7
На Куприяна Ольга и вправду родила мальчика — маленького и крепкого, как булыжник. Пуповину ребёнку вязала та же повитуха, что принимала роды у злополучной Марфы Мшарь. Когда она умильно показала дитятю князю, который уже дней пять не вставал из своей могилы, Фёдор улыбнулся и в болотных глазах его вновь вспыхнули искры: подвиг его отмечен в горних — Ольгу он отмолил. Разрешившись от бремени, Ольга и впрямь стала видеть только бестревожные сны; Фёдору же спустя сутки наконец явилась смерть. Она стояла на краю ямы под Иудиным деревом и, вылупив в пространство слепые, затянутые бельмами глаза, безучастно вслушивалась в трепет угасания нелепого упрямца, который сам, своей охотой призвал её, но не с тем, чтоб ей отдать своё, а чтоб заполучить её же достояние.
— Открой мне имя, каким ты заклеймила Марфу Мшарь, и я освобожу её душу, — едва ворочая замлевшим от безгласия языком, сказал из могилы Норушкин.
Но смерть молчала.
— Открой мне имя, слышишь ты, волчица душепагубная, грязь худая! Не тобой свет стал, не тобой и кончится! — прохрипел Фёдор, глядя ей в самые бельма. — Или хмельна от крови людской и всё не проспишься?!
Смерть ничего не сказала и с прежним безразличием отошла; Фёдор же остался в яме с пылающим гулом в голове. То было вечером, а ночью его опять с остервенением терзал чудовищный суккуб и жалил дьявольский шершень. Вериги и тернии в сравнении с этой опаскудевшей пыткой казались поутру молоком с шепталой, но умереть, навек покинуть страдную юдоль, не чая за гробом спасения, Норушкин и не помышлял.
На следующий вечер смерть вновь пришла на край Фёдоровой могилы и вперила в пространство бельма. Норушкин вновь хулил её и требовал открыть избавительное имя, но смерть, привычная к поношению, молчала.
На третий вечер, когда пришла к Норушкину слепая гостья, не желавшая ни брать его, ни завещать безмятежной жизни, Фёдор собрал в иссохшем горле горячую слюну и плюнул из последних сил костлявой в харю. Но смерть была ростом в полторы сажени, и потому горячий плевок угодил ей в самый пупок, да так удачно, что растопил как раз и скрытое в том тайном месте снисхождение. Слепая наклонилась над могилой и вложила своим поганым языком в уста Норушкина заветное имя.
Оказавшись на пороге долгожданного освобождения, Фёдор преисполнился невесть откуда взявшейся силы, встал из ямы и, сбросив рубище и сняв железы, отправился в усадьбу. Там он наказал стряпухе, умевшей свинину приготовить так, что она походила на рыбу, а из рыбы ухитрявшейся сделать баранину, немедля зажарить утку, дворовым — истопить баню, а горничной девке — постелить себе и княгине брачное ложе. Похорошевшая Ольга, у которой больше не бился на веке живчик и ложка свободно входила в уста, с младенцем на руках встретила мужа в горнице.
— Ты снова говоришь. Ты прежний. Нежто отмолил покой?
— Осталось лишь последнее сказать, — ответил Фёдор.
— Что же, господине?
— Посмотри на мой язык, — велел Норушкин, — там узришь.
Ольга заглянула ему в рот, и ребёнок выпал из её рук в подол подскочившей няньки.
— Смолчи, — сказала Ольга побелевшими губами.
— Иное хочу и промолчать, — ответил князь, — но невозможно — горит в утробе, палит пламенем.
С этими словами он поцеловал жену в глаза, которые были солоны, как у селёдки, вышел на двор, где никто его не слышал, и сказал заветное имя. Теперь душа Марфы Мшарь была свободна. И тотчас в голове Фёдора давнишний гул преобразился в голос ангельский, тотчас открылись вежды его души на гибель земли и тошную зиму еретическую, так что со двора кубарем бросился он прямо к чёртовой башне. Надо ли говорить, что не дождались Фёдора ни жареная утка, ни жаркая баня, ни постель с томящейся на грешных перинах княгиней? Его не стало, как и других, спускавшихся во чрево башни, тех, чья судьба разумение людей превозмогает. Зато — хоть в тот год, покуда оглушала Норушкина наведённая на него через Марфу Мшарь дьявольская глухота, пожухли, как осенняя листва, сердца у людей, хоть и пышно расцвела над Россией демонским цветом беда, хоть и глубоко пустила корни — по милости Своей послал Господь за твёрдость Фёдора на малый его удел благодать, и с тех пор зимой в Побудкине и окрест длится лето, укрытое поверху от посторонних глаз снегами, как чудо покрывает ум.
Глава 5. СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ, илиВОЗВРАЩЕНИЕ МАФУСАИЛА
1
На экране телевизора в декорациях зелёного сквера манифестировал речистый табунок примелькавшихся (и не очень) журналистов, усмотревших в недавнем выступлении какой-то официальной персоны несусветное кощунство. Кажется, персона осмелилась злодейски допустить, что журналисты — рядовые граждане, а стало быть, обречены покорствовать законам государства и природы наравне с парикмахерами, собаководами и мусорщиками. Форменный цинизм.
Особенно не вслушиваясь в трескотню, Андрей подумал, что человеческое чувство самосохранения откликается не только на физическую опасность, но и на угрозу представлению человека о самом себе, о том, «что я есть». Так вегетарианец болезненно реагирует на угрозу идее вегетарианства, богема — на угрозу богемности, а, прости Господи, интеллигент — на всякое сомнение в мессианском предназначении интеллигенции. «Чтобы сложить представление о себе, надо потрудиться и войти во вкус, — рассудил Норушкин. — Так женщина становится женщиной не тогда, когда в первый раз, а тогда, когда понимает, зачем это делается».
За окном висела туча и пахла непролитым дождём. В открытую форточку влетел сквозняк, залез Андрею под футболку и затеял недоброе. Какое-то время Норушкин размышлял: закрыть форточку или натянуть морозостойкий свитер? — но остался сидеть в кресле, так как ветер иссяк, а значит, и оба действия не то чтобы потеряли смысл, но выглядели бы уже искусственными.
Заниматься делом не хотелось. Делать же надо было «Российский Апофегмат» 1778 года издания с асимметричной растительной рамкой на бежеватом от времени титульном листе, где в кроне левого древа — не то странного вида пальмы, не то чудовищно вымахавшего перышка кукушкина льна, — держа в клювах вензель Екатерины II, затаился двуглавый орёл; под ним сидел нога на ногу задумчивый юноша с раскрытой книгой и кружились вокруг похожего на стожок улья злые до работы пчёлы. Внизу листа под слоем гумуса, из которого произрастали обрамляющие титул древа, изящным курсивом было пропечатано:
Безвредны сохраня составъ и видъ и цветъ,
И пищу сладкую произвели и светъ.
Венчанна мудрость такъ, чрезъ неприметны действа,
Даётъ нам къ счастию и къ просвещенью средства.
Верхняя половина строфы явно перекликалась с изображёнными пчёлами, нижняя — с вензелем.
Возможно, заниматься делом Андрею не хотелось именно из-за титула «Российского Апофегмата», именно из-за пчёл с их безотчётным, сверхмерным трудолюбием — в знак, что ли, несогласия с извечной предрешённостью, на которую обречены эти доброхотные рабыни улья, ко всему, подобно ангелам, осуждённые и на целомудрие. («Или, напротив, — смущённый бесом противоречия, подумал Норушкин, — природная стерильность — милость, а приговор — влечение, чувственность, любовь?»)
Нередко, впрочем, Андрей размышлял в метерлинковском духе о том, что если вдруг кому-то вздумалось бы рассмотреть людей сквозь ту же линзочку, через которую пытливые естествоведы глазеют на организованных букашек, в ком — в силу хладнокровия — и жизнь-то не теплится, то ничего существенного сверх того, что говорится о муравьях и пчёлах, этот кто-то сказать бы не смог. Люди тоже в своём гнетущем большинстве повинуются/поддаются только необходимости, насущным нуждам, тяге к наслаждению или страху перед страданием, и то, что принято называть человеческим разумом, возможно, имеет такую же историю и такую же миссию, как и то, что снисходительно зовут инстинктом у животных. Люди совершают поступки и думают, что им известны подоплёки/основания этих поступков. (Подумать только, едва ли не всякий человек согласен умереть за потомство как какой-нибудь распоследний термит. При этом человек обманывает себя тем, что оно, потомство, заслуживает подобной жертвы, ибо будет прекраснее и счастливее, ибо совершит нечто, что сейчас никак невозможно совершить. Какой самозабвенный вздор.) Люди подвергаются какому-либо внешнему воздействию и льстят себя надеждой, что постигают его источник/мотив лучше, чем это делают пчёлы в отношении пасечника. Но ведь под каблуком у этой уверенности нет ничего непоколебимого — человеческие прозрения ничтожны и редки в сравнении с пропастью тех уловок, какие совершаются для человека в неизвестности, в том мраке, среди которого люди, возможно, слепы той же слепотой, какая предполагается, скажем, в отношении муравьишек…