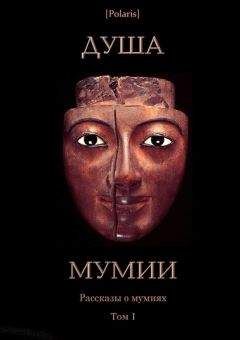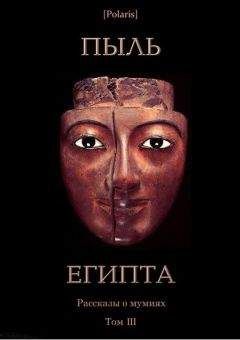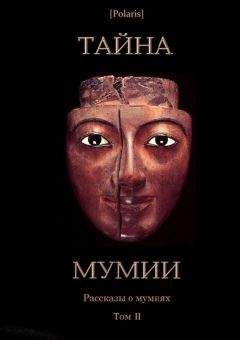Я спросил графа, что он думает о наших железных дорогах.
— Ничего особенного, — отвечал он. — Они устроены довольно непрочно, легкомысленно и неуклюже. Какое же сравнение с широкими, гладкими дорогами, по которым египтяне перевозили целые храмы и массивные обелиски в полтораста футов вышиною.
Я завел речь о наших гигантских механических силах.
Он согласился, что мы немножко маракуем по этой части, но тут же спросил, как бы я принялся за дело, если бы надо было поместить лопатки под сводами хотя бы маленького Карнакского дворца.
Я сделал вид, что не слышу этого вопроса, и спросил, имеет ли он понятие об артезианских колодцах. Но он только высоко поднял брови, а мистер Глидцон бросил на меня суровый взгляд и заметил вполголоса, что такой колодец недавно был найден инженерами в Большом Оазисе{43}.
Я заговорил о наших стальных изделиях; но иностранец презрительно повел носом и спросил, можно ли нашими стальными орудиями исполнить такую резьбу, какую египтяне исполняли на обелисках медными резцами.
Все это смутило нас настолько, что мы решили перейти к вопросам метафизическим. Мы послали за книгой, называемой «Обозрение», и прочли египтянину главу или две о чем-то не весьма ясном, но известном у бостонцев под именем великого движения или прогресса.
Граф заметил только, что великие движения были самым обыкновенным явлением в его время, а прогресс одно время сделался истинной язвой, но никогда не прогрессировал.
Тогда мы перешли к величию и значению демократии и не без труда втолковали графу, какими выгодами мы пользуемся, живя в стране, где существует подача голосов ad libitum и нет короля.
Он выслушал нас с интересом и, по-видимому, нашел наши рассуждения очень забавными. Когда мы кончили, он сказал, что много веков тому назад уже пытались устроить нечто подобное. Четырнадцать египетских провинций решили провозгласить себя свободными и тем самым подать великолепный пример остальному человечеству. Они собрали своих мудрецов и состряпали остроумнейшую конституцию. Сначала дело пошло недурно, только хвастались они ужасно. Но кончилось тем, что упомянутые четырнадцать провинций с пятнадцатью или двадцатью другими подпали под власть самого ненавистного и невыносимого деспотизма, какой когда-либо владычествовал на земле.
Я спросил, как звали деспота?
Сколько помнилось графу, его звали Чернь.
Не зная, что ответить на это, я возвысил голос и выразил сожаление, что египтяне не знали силы пара.
Граф взглянул на меня с удивлением, но ничего не ответил. Молчаливый джентльмен двинул меня локтем в бок, — шепнул мне, что я оскандалился, и прибавил, что современная паровая машина происходит от изобретения Герона через Соломона де Ко{44}.
Нам угрожало решительное поражение, но, к счастью, доктор Понноннер собрался с духом, явился к нам на выручку и спросил, неужели египетский народ мог бы серьезно думать о соперничестве с нами в таком важном предмете, как одежда.
Граф взглянул на штрипки своих брюк, затем взялся за фалду сюртука и поднес ее к глазам. Когда он выпустил ее, рот его мало-помалу раскрылся до ушей, но больше он ничего не ответил.
Тут мы воспрянули духом, и доктор Понноннер, подойдя к мумии с видом глубокого достоинства, попросил ее ответить по правде, как честный джентльмен, умели ли египтяне в какой бы то ни было период своего существования приготовлять лепешечки Понноннера и пилюли Брандрета{45}.
Мы с глубоким беспокойством ожидали ответа, но тщетно. Ответа не было. Египтянин покраснел и понурил голову. Никогда торжество не было столь полным, никогда поражение не было столь горьким. Я не вынес убитого вида мумии. Я схватил шляпу, сухо поклонился графу и ушел.
Я пришел домой в четыре часа и тотчас же улегся спать. Теперь десять утра. Я встал в семь часов утра и написал эти воспоминания на поучение моей семье и человечеству. От семьи я отказываюсь. Моя жена ведьма. По правде сказать, мне смертельно надоела эта жизнь, да и вообще девятнадцатый век. Я убежден, что все идет как нельзя хуже. К тому же мне хочется знать, кто будет президентом в 2045 году. Итак, побрившись и проглотив чашку кофе, отправлюсь к Понноннеру и велю набальзамировать себя на двести лет.
Был полдень, и там, снаружи, цвела свежесть и пышность жизни, но тьма полуночи и мертвецы царили в египетской гробнице, высеченной в сердце Ливийских гор. Грандиозные руины в двухстах футах надо мною, полускрытые желтыми, сверкающими песками пустыни, казались скелетом города несказанных чудес. Однако же запустение Фив было призрачным. Скульптурные лица колоссов глядели на развалины строгими сухими глазами, словно насмехаясь над тщетой человеческих стараний. Меня окружали мумии, скульптуры и фрески на стенах. Здесь жизнь и смерть соприкасались и узнавали одна другую в непреложности обоюдного существования. Прах людей забытых веков проповедовал глубочайшие истины в гигантских мавзолеях. И все же, не веря этим истинам, я спрашивал себя, не заблуждались ли египетские оракулы, когда утверждали, что душа, после трех тысяч лет паломничества к иным храмам, вдохнет в тела мертвых новую жизнь?
Испуганная летучая мышь то влетала в гробницу, то вновь вылетала; злобный скорпион, пробираясь по карнизу одного из склепов надо мною, скрежетал своими латами. Легкое дуновение ветра из галереи наполнило мои ноздри отвратными испарениями мумий и смело пыль с резной колонны. Я пребывал в ларце смерти, и мумии были его драгоценностями. Столетия пролежавшие мертвыми и тем не менее живые во всем, кроме жизни; да, лишь дыхания жизни недоставало им, чтобы сбросить бинты и покровы и предстать предо мною! Думая о том, что они могут восстать из могил, о чудовищности такого воскресения, я задрожал.
Но если египетское учение окажется истинным, если жизнь возобновляется спустя тридцать веков, они в любой миг могут воскреснуть, и меня ждет пароксизм безумного страха. Что если в запутанном переплетении галерей этой колыбели древнего ужаса на меня накинутся толпы оживших египтян, разъяренных моим святотатством?
Я представил себе беспощадное сражение с их иссохшими телами, попытки вырвать победу из их вцепившихся в меня рук, в то время как их жесткие волосы, пахнущие склепом, будут царапать мое лицо… Несуразные игры воображения, взбудораженного странной обстановкой, вкупе с шелестящим звуком в далекой галерее, заставили меня выронить факел и броситься со всех ног к выходу из гробницы, где я застыл, дрожа от испуга и не зная, куда направиться. К счастью, появился Феррадж, мой проводник; иначе в темноте и гнетущем одиночестве я лишился бы рассудка.
Гробница, в которой я находился, была открыта за день до этого. Она состояла из большого зала с тяжелыми арками, массивной колонной в центре и тремя рядами ниш с каждой стороны; у входов в них располагались росписи ярко-красного цвета. Громоздкая резьба на колонне представляла собой тяжеловесные скульптурные изображения, лишенные утонченности линий, воздушной легкости, что могла бы сказаться на их внушительной симметрии. Всякий завиток, всякая прямая на колонне и плитах были твердыми, жесткими и даже жестокими, все они выражали власть. Тут и там на грубом граните виднелись неуклюжие и замысловатые изображения торжественных церемоний, высеченные руками терпеливого резчика. Но руки, которые день за днем, по приказу коварного жреца или скорбящей родни, высекали и рисовали, тысячи лет назад выронили резец и кисть, а их труды стали памятниками неосуществленного величия.
Осмотрев ряды ниш, я увидел, что многие лишились своего содержимого. Только одна оставалась нетронутой; на плите, закрывавшей вход, был изображен яркими красками лотос, сорванный в самом цвету. На могиле не было надписей, которые помогли бы опознать мертвое тело; не было и рельефа, рассказывавшего о жизни покойного или покойной. Раствор по краям плиты окаменел, подобно скале, где была высечена гробница. Полчаса работы ломом принесли ничтожные результаты, и я поместил под плиту, в углубление, расширенное ломом, некоторое количество пороха. Огонь зашипел, пожирая шнур, раздался глухой звук взрыва, тотчас потонувший в мертвой тишине галерей. Плита с изображением рухнула на пол и разлетелась на куски.
В открывшейся нише находился саркофаг с мумией, с головы до ног обернутой льняными полотнищами и покоящейся на ложе из высохших цветов. В задумчивом сожалении я укорял себя за такое святотатство, увидев, что то было тело женщины. Но отвратительный, отдающий плесенью запах трупа уже распространил свои неуловимые миазмы по залу, проник в мозг и отравил его. В этот миг опьянения чувств мне почудилось, что мумия сбросила свои погребальные одежды и медленно отступила, пройдя сквозь каменные стены, которые не закрылись за нею; после я со всей ясностью увидел, как она проплывает в воздухе по вырубленной в скале галерее, вдоль рядов могил, расположенных у стен одна над другой. Из каменных могил тянулись руки смуглокожих мумий, пальцы их тщетно пытались вцепиться в призрак, тогда как он, не дрогнув ни единым мускулом, с недвижными чертами, все скользил по ужасному коридору, пока не исчез в сумраке.