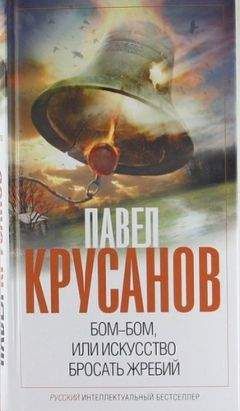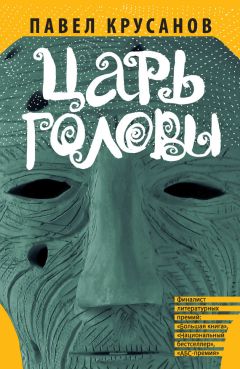— Нет-нет, рассказывай. Мы делаем это так необычно и странно… О-о-ох, мамочка-а!..
— Суть сказа в следующем. Один скверный великан, которому была ненавистна природная чистота людей, украл у богов огонь и, отдав его людям, облагодетельствовал их слепыми надеждами и ввёл в искус жарить мясо и коптить сало. Так люди извратились. Богам, тоже в общем-то скверным, затея великана понравилась, но вора они решили всё же покарать. А заодно, в развитие темы, переходя, так сказать, с «ля» на «до», отучить от чистой пищи зверей и птиц. Главный бог велел приковать великана к камню и наказал ворону каждый день, изменяя своей природе, клевать его, великана, поганую живую печень. Куда ворону деваться? Стал клевать… О-о-о, Катя, бог мой!.. Но нашёлся среди людей герой, взращённый на чудотворной овсянке, который освободил ворона, позволив ему, как положено от века, питаться желанной падалью. Тем самым вернул герой зверям порядок и счастье, а людей повёл за собой к овощам и злакам, и те, кто пошли за ним, спаслись, а те, кто продолжал есть мясо, навеки… сгубили… свою… овощную-ю… душу-у-у… Детка, мы что же, не предохраняемся?
5
Проснулся Андрей глубокой ночью и, оглядевшись, сразу сочинил стихи, чего с ним прежде никогда не случалось. Он вообще считал поэзию чем-то вроде болезни, как икоту или заикание. И в самом деле, что остаётся думать, когда нормальный с виду человек ни с того ни с сего начинает говорить каким-нибудь хореем да ещё, прости Господи, в рифму? Если этим он не вызвал самовозгорание близлежащего сарая, бурю или живого дракона, то такому человеку впору ставить уколы.
Стихи были следующие:
Подушка под затылком каменеет.
Вид ночи за окном темнеет.
А впрочем, не темнеет, нет –
Ночь испускает мглистый свет.
Подружка сбоку медленная спит.
Через неё проходит сон-транзит.
А я не сплю, и странный свет ночной
Заполнил переулок весь Свечной.
Свечного переулка за окном не было, он взялся с потолка для рифмы, а что касается света, то ночь во дворе определённо была светлее, чем ночь в комнате.
Андрей осторожно поднялся с постели и отправился в ванную, по дороге рассуждая, что-де в дядины лета он, пожалуй, тоже будет строчить что-нибудь про «здравомыслья полигон»…
В ванной, как правило, Норушкину в голову приходили внезапные мысли.
На этот раз, лёжа в тёплой воде, Андрей остро почувствовал, что что-то не так. Точнее, что всё, что произошло, произошло далеко не просто так. Ну да, она из Ораниенбаума. Ораниенбаум — Это Рамбов. Ей помогает рамбовское землячество. А что такое рамбовское землячество? Это Аттила. Об Аттиле в «Либерии» толковал Герасим, который на самом деле Иван Тургенев. Впрочем, классик тут, кажется, ни при чём… Кто был ещё в «Либерии», кроме иуды Тараканова? Левкин, Коровин, Секацкий, Григорьев. Ещё — Митя Шагин. Что он говорил? Ничего. Что мог бы сказать? «Казачок-то засланный…» Нет, это не из его цитатника. А попугай? Про попугая в тот день он сам рассказал Тараканову. Была ли уже в то время в «Либерии» Катя или нет? Герасим, отблеск души на лице которого был пустынен и страшен, вроде бы что-то ещё толковал о дяде Павле, за которым вчера приехала навороченная машина и куда-то его увезла. Кому он понадобился? О чёртовой башне в Побудкине знает дядя Павел и он, Андрей Норушкин… Что-то здесь не так. Но что? И где же ключ?..
Быть может, ключ в ночном стихотворении? Может, в нём скрыта какая-то провиденциальная подсказка? В конце концов, поэзия, возможно, вовсе не досадный недуг, а некое прозрение, происходящее в обход личной искушённости и личного опыта, о чём время от времени твердят сторонники положительного воззрения на природу стихотворства? «Подушка под затылком каменеет» — призыв не спать, быть бдительным? В широком, разумеется, смысле… «Вид ночи за окном темнеет» — это почти неладно что-то в Датском королевстве, силы зла идут в атаку, отечество в опасности… «А впрочем, не темнеет, нет — ночь испускает мглистый свет» — стало быть, всё-таки есть надежда, в недрах тьмы возгорается светоч чаемого обновления? Смущает, впрочем, «мглистый…» Ладно. «Подружка сбоку медленная спит» — натурализм или метафора, мол, во сне человек за себя не отвечает? «Через неё проходит сон-транзит» — мало того что за себя не отвечает, так ещё и управляется чуждой волей, что твой зомби… «А я не сплю» — ну, здесь понятно — с булыжником под головой не разоспишься. «И странный свет ночной заполнил переулок весь Свечной» — при чём здесь Свечной?
Почему свет идёт оттуда, в чём символика? Там всего-то пять-шесть магазинов плюс гомеопатическая аптека, ритуальные услуги и адвокатская контора. Правда, рядом валютный обменник и Ямские бани… Очищение? Катарсис? Бред. Стоп, может, акростих? Бред, бред…
Андрей поднялся из ванной, наскоро вытерся и обвязался полотенцем. В столовой/кабинете/мастерской/гостиной он зажёг свет и снял с тиснёной крышки «Российского Апофегмата», которому наутро предстояло реставрировать корешок, царственного Мафусаила. Повертев его в руках, Норушкин осторожно дёрнул за два белых, торчащих из хвоста пера. И перья, и сам Мафусаил несомненно были настоящими.
6
Катя в это время спала и во сне шевелила губами, произнося неслышный монолог в ритме своего молодого, трепетного сердца.
Ах, Катенька, Катюшенька, кто сможет пожалеть тебя?
Посмеет полюбить тебя?
Попробует понять тебя?
Не жалостью прохожего к калеке-побирушечке, той жалости — на гривенник.
Любовию не рабскою, на воровство похожею, любовью не рассудочной, на ремесло похожею, любовью не отеческой, до той поры отрадною, пока дитя покорное.
Не пониманьем праздного зеваки перед выставкой в витрине книжной лавочки, где за стеклом красуются обложки лишь и ценники, тот по обложке высудит: вот эта — блядь столичная, вот та — провинциалочка, а эта — стерва знатная, пиявка ненасытная, вселенную всю высосет, небось, и не подавится…
Нет, пожалеть той жалостью, какой жалеют равного.
Нет, полюбить до донышка, до волоска, до родинки, чтоб ревновать и к яблоку, которое любимая кусает и, с румяного, сок слизывает медленно, так полюбить, чтоб плакалось от взгляда, сквозь скользнувшего, и слезы те горючие любить — их Катя вызвала!
Нет, так понять, как пробуешь себя понять, бесценную, — такие находя в душе ходы и разветвления, что путаешься: кто же я? Что о себе я думаю? Нежна я или опытна? Добра или расчётлива? Понять, но без презрения к привычкам или слабостям, прощать их, как себе прощаешь ноготок обломанный.
Эй, Дима, ты сумеешь так?
Андрюша, ты сумеешь так?
А я сама сумею так?
Сердечко моё, ёжик мой, мой Себастьян, расстрелянный Эротом, что — попробуем?
Глава 6. РАЗВЯЖИ УЗДЫ СИЛЬНЫХ
1
Земля набухала, гудела и томилась силой не взошедших покуда косматых трав. Норушкина знобило — так всегда бывает, когда перебиваешь сон. В ноздри звонко ударял настоянный весенний запах прошлогодней прели.
Пока Норушкин скрёб песком закоптелый котелок, в котором час назад хохотала уха и метались ослепшие рыбы, приречный ветер шуршал вокруг сухим камышом и студил лицо. Окрестные холмы угрюмо ожидали пробуждения: казалось, вот-вот повсюду взойдут не ковыли, а, обдирая со скул земляную гниль, поднимутся из могил монголы Чингисхана и Хубилая.
Руки Николая были перепачканы жирной сажей, и мутная речная вода сходила с них как с гуся.
2
Когда-то, после исключения его из Александровской гимназии за скверное прилежание и бесконечные школьные проказы, далеко не всегда невинные (так, однажды он распустил про директора слух, будто бы тот велел убить трёх гимназистов, чтобы перелить в себя их кровь и тем продлить свою угасающую жизнь), в семье решено было определить Николеньку в военное заведение. Выбор отца, доктора права Петербургского университета, служащего по линии Министерства государственных имуществ, пал на Морской корпус, куда он и отдал десятилетнего оболтуса Николеньку, возложив надежды относительно блестящей гражданской карьеры на младшего сына Илюшу.
Но данность твёрже грёзы и гораздо плотнее родительских желаний — стать морским офицером Николаю не пришлось. Как только началась война с Японией, он, не дожидаясь выпуска, отправился на фронт, записавшись рядовым в пехотный полк, что, признаться, в глазах окружающих выглядело по меньшей мере чудачеством. Впрочем, собственные его намерения тоже оказались мягче реальности — здесь его поджидала первая издёвка судьбы в череде предписанных ему роковых сценарных недоделок — к тому времени, когда Николай попал наконец на Дальний Восток, война (прискорбно для отечества и предательски для него лично) уже закончилась.