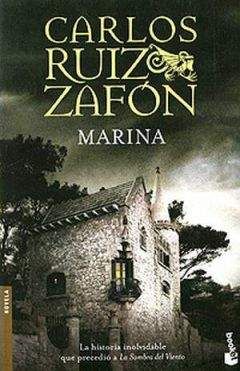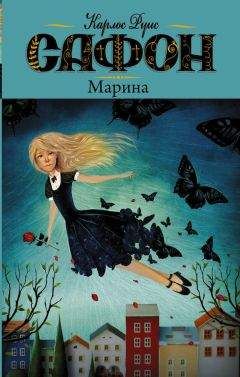Больше я его не видел… но я все еще жив. Кольвеник не исполнил своей последней угрозы.
Флориан остановился и отпил воды из стакана. Он всасывал жидкость с такой жадностью, как будто это был его последний стакан воды в жизни. Он облизнул губы и продолжил рассказывать.
— С того дня Кольвеник, одинокий и всеми покинутый, жил вдвоем со своей супругой в гротескном замке, который построил до этого. В последующие годы его видели только два человека. Первым был его старый шофер, некий Луис Кларет, обездоленный бедолага, который слепо обожал Кольвеника и не ушел от него, даже когда тот больше не мог выплачивать ему зарплату. Вторым был его личный врач, доктор Шелли, на которого мы тоже завели дело. Никто больше Кольвеника не видел. Из показаний Шелли следовало, что он не выходил из своего дома в парке Гуэля, пораженный какой-то неведомой болезнью, симптомы которой он не мог нам описать. Не поняли мы их, даже когда просмотрели личные записи Шелли.
Через какое-то время мы заподозрили, что Кольвеник умер или бежал за границу, и все это было фарсом. Шелли продолжал настаивать на том, что странная болезнь не позволяет Кольвенику покидать особняк. Он ни при каких обстоятельствах не мог принимать посетителей или выходить за пределы дома; это был приговор.
Ни мы, ни судья не могли предположить… Тридцать первого декабря 1948 года мы получили ордер на обыск его дома и на арест самого Кольвеника. Большая часть конфиденциальной документации предприятия исчезла. Мы подозревали, что она находится в резиденции Кольвеника. У нас уже было достаточно доказательств, чтобы обвинить его в мошенничестве и уклонении от налогов. Ждать дальше не было смысла.
— Последний день 1948 года был последним днем Кольвеника на свободе. Специальная бригада должна была прийти за ним в особняк. Иногда крупных преступников приходится ловить на мелочах…
Сигарета Флориана снова погасла. Инспектор посмотрел на нее и бросил в пустую пепельницу, вокруг которой уже образовалась братская могила окурков.
— В ту самую ночь страшный пожар, в котором погибли Кольвеник с Евой, уничтожил их жилище. Когда рассвело, на чердаке обнаружили два обуглившихся тела…
Наши надежды закрыть дело рухнули в одночасье. Я никогда не сомневался в том, что пожар этот не был случайностью. Со временем я пришел к выводу, что за этим стоял Сентис и другие члены правления.
— Сентис? — перебил я.
— Ни для кого не было секретом, что Сентис терпеть не мог Кольвеника за то, что тот перехватил контроль над предприятием, но у них обоих были причины не позволить этому делу попасть в суд. Но нет человека — нет проблемы. Без Кольвеника головоломка теряла смысл. Можно только сказать, что той ночью в пожаре очистилось много окровавленных рук. Но, опять же, как и во всем, что было связано с «Вело Гранелл», доказательств не было. Все сгорело.
— Но по сей день дело «Вело Гранелл» остается самой большой загадкой в истории полицейского департамента Барселоны. И самой главной неудачей в моей жизни…
— Но ведь пожар случился не по вашей вине, — возразил я.
— Моя карьера в полиции была разрушена. Меня перевели в отдел по борьбе с подрывной деятельностью. Знаете, что это такое? Охота за привидениями. И все это понимали. Я хотел оставить это место, но времена были голодные, а своим жалованием я помогал брату и его семье. Кроме того, бывшего полицейского на работу никто не возьмет.
Народ был сыт по горло разведчиками и доносчиками. Эта работа — единственное, что мне оставалось. Она заключалась в том, что я должен был среди ночи проверять приюты с инвалидами войны и пенсионерами на предмет обнаружения экземпляров «Капитала» и социалистических листовок в мусорных пакетах…
— В конце 1949 года я думал, что со мной покончено. Все было не просто очень плохо, а еще хуже. По крайней мере, так мне казалось. Тринадцатого декабря, на рассвете, почти через год после пожара, в котором погибли Кольвеник с женой, у дверей старого цеха «Вело Гранелл» в Борне были обнаружены разорванные в клочья тела двух инспекторов, которые вместе со мной расследовали это дело. Было известно, что они отправились в цех по анонимной наводке по делу «Вело Гранелл». Это была ловушка. Такой смерти я бы не пожелал и худшему врагу. Даже попади они под колеса поезда, их тела не были бы так обезображены… Они были хорошими полицейскими. Вооруженными и опытными. В отчете говорилось, что прохожие слышали выстрелы. Возле тел было найдено четырнадцать девятимиллиметровых гильз.
Все указывало на то, что гильзы были их. Однако ни в стенах, ни где-либо еще в пределах помещения ни одной пули не было.
— Как такое возможно? — спросила Марина.
— А никак. Это совершенно невозможно. Но случилось… Я лично видел гильзы и осматривал место преступления.
Мы с Мариной посмотрели друг на друга.
— А может, они стреляли по машине или по карете, или по другому движущемуся объекту, в котором застряли пули? — предположила Марина.
— Твоя подруга стала бы отличным полицейским. Мы в свое время проверили эту гипотезу, но она не подтвердилась. Пули такого калибра должны рикошетить от металлических поверхностей, нанося различные повреждения, что всегда можно установить по найденным кусочкам металла. Здесь же не было ничего.
— Через несколько дней, на похоронах моих друзей, я увидел Сентиса, — продолжил Флориан. — У него был беспокойный вид человека, не спавшего несколько суток. Грязная одежда висела как на вешалке, а изо рта воняло перегаром. Он признался мне, что из страха не возвращался домой, а спал все это время в ночлежках… «Моя жизнь не стоит и гроша, Флориан», сказал он мне. — «Я мертвец». Я предложил ему защиту полиции, но он лишь улыбнулся в ответ. Я даже предложил ему пожить у меня. Он отказался. «Я не хочу, чтобы ваша смерть была на моей совести», — сказал он и затерялся в толпе.
В последующие месяцы все, кто расследовал дело «Вело Гранелл» умерли, якобы по естественным причинам. Врачи в каждом случае констатировали сердечный приступ. Обстоятельства были похожи: жертва погибала одна, зачастую ночью, в постели, иногда на полу. Как будто пыталась бежать от безликой смерти. Исключением был Бенжамин Сентис. Я не разговаривал с ним тридцать лет, до недавнего времени.
— Накануне его гибели? — уточнил я.
Флориан кивнул.
— Он позвонил в участок и спросил меня. По его словам, он располагал информацией об убийствах в цехе и деле «Вело Гранелл». Я ему позвонил и переговорил с ним, уверенный, что он в бреду, но из сострадания согласился встретиться в баре на улице Принсеса на следующий день. Он не пришел на встречу. Через два дня мне позвонил старый друг из полиции и сказал, что они обнаружили в туннеле канализации труп. Протезы рук, изготовленные Кольвеником, исчезли. Все это упоминалось в прессе.
Однако в газетах не говорилось, что на стене туннеля полиция обнаружила надпись, сделанную кровью. «Teufel».
— «Teufel»?
— Это на немецком, — сказала Марина. — Означает «дьявол».
— А еще так назывался символ Кольвеника, — добавил Флориан.
— Черная бабочка?
Он кивнул.
— Почему она так называется? — спросила Марина.
— Я не этимолог. Знаю только, что Кольвеник их коллекционировал, — ответил полицейский.
Был уже почти полдень, и Флориан пригласил нас на обед в забегаловку возле вокзала. Все мы хотели поскорей уйти из этого дома. Оказалось, что хозяин забегаловки — друг Флориана. Он посадил нас за столик у окна.
— Что, племянники решили навестить, шеф? — спросил он с улыбкой.
Флориан кивнул, не вдаваясь в объяснения. Официант принес нам по яичнице и хлебу с помидорами, и пачку сигарет для Флориана. После вкуснейшего обеда Флориан продолжил рассказ.
— Когда я приступил к делу «Вело Гранелл», выяснилось, что точных фактов о прошлом Кольвеника известно не было… В Праге не было никогда человека его национальности с таким именем. Вероятно, имя Михаил было его псевдонимом.
— Тогда кем же он был? — спросил я.
— Я задаюсь этим вопросом вот уже тридцать лет. На самом деле, когда я связался с пражской полицией, они сказали, что в архивах Вольвтерхауса был некий Михаил Кольвеник.
— Что это такое? — спросил я.
— Муниципальная психиатрическая лечебница. Но не думаю, что это был наш Кольвеник. Скорее всего, он просто взял себе имя пациента этого заведения. Кольвеник не был психом.
— А зачем ему было брать имя пациента лечебницы? — спросила Марина.
— В то время это было делом привычным, — объяснил Флориан. — В послевоенное время взять другое имя означало начать жизнь заново. Оставить кошмарное прошлое позади. Вы еще очень молоды, и в годы войны вам жить не довелось. Вы и не знаете тех, кто после нее начал жизнь заново…