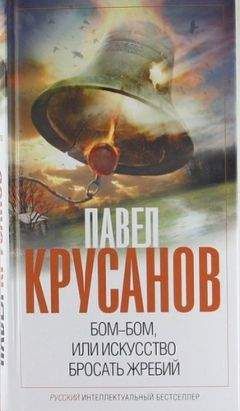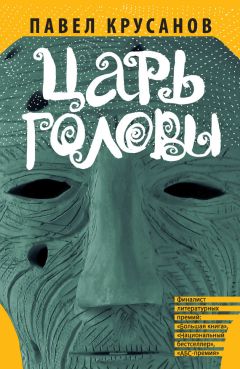С клеткой, куда он посадил «Баку» и медово-яичные палочки, в руке и арбузом под мышкой Андрей вошёл в «Либерию», как волхв с дарами в вифлеемский хлев.
По причине сравнительно раннего времени здесь было пусто. За стойкой стоял Тараканов; единственный занятый столик делили, разминаясь пивом, Секацкий с Коровиным. Последние Норушкина не заметили, благодаря чему Андрей услышал часть разыгрывавшейся между ними речи.
— И что она в нём нашла? — осведомился Секацкий.
— Дружочек, — с готовностью разъяснил Коровин, — она в нём нашла мужской половой х…й.
— А что это такое?
— Мужской половой х…й, Секачка, если договариваться о смысле понятий, — это пенис с амбициями фаллоса. — Коровин хлебнул пива. — А вообще, я тебе скажу, любовь зла, и козлы этим пользуются.
Судя по разговору, приятели не были обременены делами и никуда не спешили.
— Вы, как обычно, о высоком…
— Привет! — вскочил и тут же снова плюхнулся на стул Коровин. — Хомячков завёл?
Поставив клетку на пол, Андрей присел за столик третьим.
— Мы обсуждаем странный выбор Наташи Гончаровой, — сообщил Секацкий. — Разумеется, в первом браке. Коровин завтра в Институте психоанализа семинар ведёт по Пушкину.
— В таких терминах обсуждать выбор женщины — это пошло. — Андрей водрузил на стол арбуз и некоторое время устраивал его так, чтобы он не укатился.
— Ни хера это не пошло, — возразил Коровин с отменным доводом на языке: — Они про нас ещё и не в таких терминах говорят.
— Я согласен с Сергеем — это не пошлость, — устремив горящий взгляд в плинтус, принял лекторский тон Секацкий. — Это не пошлость, потому что пошлость сама по себе не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Она не зависит даже от вкуса и чувства безупречного в человеке. Пошлость — в усталости. Не в усталости человека, а в общей усталости мира. Причём усталость — это не старость. Та иногда бывает благородной и мудрой. Усталость — это упырь, пришедший попить у живого кровушки.
А от упыря, как известно, помогает уберечься не вкус, а осиновый кол.
— Вова, — с надеждой посмотрел на Тараканова Андрей, — налей-ка мне пива.
— А ты посудой кидаться не будешь? — поинтересовался из-за стойки Тараканов. — Тебя пусти в дом, ты все углы зачихаешь.
Тем не менее пиво Тараканов принёс и даже сменил пепельницу.
— Чем же интересен Пушкин для психоанализа? — спросил Андрей.
— Всем, — конкретно заявил Коровин.
— Метафизика создания текста, по сути, та же сексуальность, — снова упёрся взглядом в плинтус Секацкий. — Большинство художников, как известно, спят со своими натурщицами. Те, кто не спит, — вожделеют. Те, кто не вожделеет, — просто отрабатывают повинность, живописуя бесполых истуканов. Замысел текста — та же натурщица, зовущая автора к акту творения — писанию текста, соитию с собственным воображением. Но где кончается сексуальность и начинается скабрезность? Можно, разумеется, вспомнить Александра Сергеевича: «Вчера с Божьей помощью вы…бал Аннушку Керн», — однако это частное письмо, а миру он предъявил: «Я помню чудное мгновенье…» Скабрезность — это пьяная девка, танцующая голой на столе. Сексуальность подразумевает ритуал, который бесстыдство лишь венчает, а явившееся изначально, оно лишает сексуальность прелести эзотерической игры и отменяет ритуал, как досадную помеху, сбрасывает его, как путающуюся под ногами юбку. Сексуальность пропадает в тексте, когда автор, а следовательно и сам текст становятся бесстыдны. Такой текст, как танцующую на столе пьяную девку, приветствуют упыри и пользуют хамы.
— Что говорить? — вступил Коровин. — Возьмём «Дубровского». Сколько этой самой прелести игры в одном только образе дупла, посредством которого герои общаются друг с другом столь — простите, господа — проникновенно. А скажи тут без обиняков и эвфемизмов, приступи сразу к делу — всё пропало. Останется голая Маша, пляшущая посреди заливной поросятины.
— Я не понял — кто из вас завтра ведёт семинар?
— Я веду, — сказал Коровин. — А Сека оттачивает свой инструмент познания.
— А что, Андрюша, — язвительно подал голос от пивного краника Тараканов, — Дубровский-то, поди, на самом деле Норушкиным был?
— Дурак ты, Вова, — старой злостью озлился Андрей. — Редкого ума дурак. Ты же нашей Военной Тайной за три копейки торгуешь. На Мальчиша-Кибальчиша бы равнялся, на его твёрдое слово. Глядишь, человеком бы стал. Плывут пароходы — привет Тараканову!
— Ладно-ладно, — обиделся Тараканов. — Ты ещё скажи, что Норушкины исстари на Руси вражьи козни укрощают, а Таракановы, бесово семя, смуты и супостатов разных наводят. И вообще, вы, Норушкины — сахар земли. Не будет вас — чем сделать жизнь сладкой?
— Так примерно и есть, — сказал Андрей. — Впрочем, материя эта разум мой превозмогает. А Герасиму скажи, пусть сам с Аттилой имущественные споры решает, как в их бандитском деле и заведено.
— Скажу, — пообещал Тараканов, — а то он без твоих наказов пропадёт. — И добавил со значением: — Счастье твоё, что его третий день не видать…
Оставив без внимания токсичное бухтенье совладельца «Либерии», Норушкин долгим глотком отхлебнул из кружки пива.
— Что за тайна такая? — Секацкий подвинул к Андрею блюдечко с сушёными кальмарами.
— Если я скажу, какая ж это будет тайна?
— А Тараканов почему знает? — для ровного счёта задал вопрос Коровин.
— По слабости ему выдал, во хмелю, — сознался Андрей. — А вам я это уже рассказывал…
— Байки его — враньё, — ловя жёлтым ухом колебания пространства, сказал из-за стойки Тараканов. — Несоразмерные больно, как у Геббельса — типа, ложь, чтобы в неё поверили, должна быть чудовищной.
«Что ж ты тогда, стервец, Герасима навёл?» — хотел вспылить Норушкин, но удержал себя, скрепился.
Секацкий мигом устремил взгляд на плинтус и навострил свой инструмент познания:
— Многие считают, что производство истины есть нечто естественное и само собой разумеющееся, а любые отклонения от неё — то есть ложь — есть энергозатратный обходной путь, нечто вроде заплыва против течения или бега в мешке. Однако это не так. Ложь является неотъемлемым качеством человеческого сознания — благодаря ей человек обособился в природе и стал тем, кем стал. Именно ложь для человека — легка, а вот практика истины, напротив, тяжела и мучительна. Недаром большинство эпитетов из сферы истинного представляют собой рабочие термины из лексикона заплечных мастеров Тайной канцелярии. Подлинное, вероятно, именно то, что добывается «под длинной», то есть под плетью. А относительно того, откуда извлекается «вся подноготная», и вовсе нет никаких иллюзий.
— Хорошо с вами, господа. — Андрей залпом допил пиво и облапил арбуз. — Лёгкость в мыслях появляется необыкновенная. Однако неотложные дела требуют моего присутствия в ином месте.
— Дома, что ли? — уточнил Коровин.
— Дома. — Свободной рукой Андрей поднял с пола клетку.
— Что ж ты нагрузился так, дружочек? Сека, подожди пять минут — я этого барахольщика отвезу и мигом обратно.
— На чём отвезёшь? — удивился Андрей.
— Он скутер купил, чтобы на рыбалку ездить, — сказал Секацкий. — Минималист: дачу продал, скутер купил. А пиво всё равно пьёт очень даже алкогольное.
— Безалкогольное пиво, Сека, это первый шаг мужчины к резиновой женщине.
— А что такое скутер? Это катер такой?
— Во времена Среднего царства, Андрюша, — назидательно сказал минималист Коровин, — это называлось «мотороллер».
— Так это мотороллер?
— Да. Только маленький.
— И где он?
— В гардеробе поставил.
Скутер и вправду оказался маленьким и юрким, как плавунец; чтобы по дороге не свалиться, Норушкину пришлось держаться за ворот коровинской мультикарманной рыболовной жилетки зубами.
4
Дома Андрей закатил арбуз в холодильник, посадил Мафусаила в клетку, задал в кормушку корма, а в поилку — пойла. После чего сел за стол и положил перед собой «Российский Апофегмат». В магазин за человеческой едой он решил сходить позже.
Аккуратно разрезав скальпелем ветхие фальцы пришивных форзацев, он освободил закреплённые в крышках концы верёвок, на которых были сшиты тетради «Апофегмата», и вынул блок из переплёта.
Переплёт был поздний — примерно середина позапрошлого века, — полукожаный, с уголками; крытьё — зернистый коленкор под шагрень со слепым тиснением на первой сторонке. Телячья, должно быть изначально скверного качества, кожа корешка с четырьмя накладными бинтами обветшала, махрилась понизу и сыпалась на сгибах. К тому же Мафусаил успел-таки посадить на корешок блямбу своего бронебойного гуано. Заряд, впрочем, оказался холостой и дыры не прожёг.
Коленкор выглядел относительно прилично, его можно было подлечить, а вот корешок и уголки следовало делать заново.