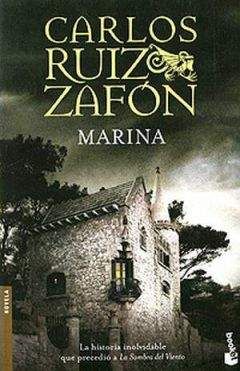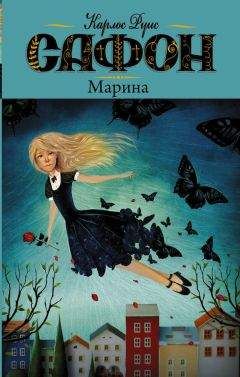Чтобы хоть что-то видеть в царившем тут мраке, Кларет зажег свечу. Он открыл другим ключом вторую дверь. В прихожую хлынул поток воздуха, и свеча зашипела. Когда мы подошли ко второй двери, Марина сильно сжала мне руку. Мы замерли на месте, созерцая потрясающее зрелище — внутреннее убранство Большого королевского театра.
Огромный купол возвышался на десятки метров. Бархатные занавески лож колыхались в пустоте. Огромные хрустальные люстры над рядами кресел, бесконечными и пустыми, так никогда и не подключили к электричеству. Мы через боковую дверь попали на сцену. Над нами располагался механизм для перемены декораций, состоявший из множества занавесов, помостов, блоков и мостков, терявшихся за пределами видимости.
— Сюда, — повел нас Кларет.
Мы пересекли сцену. В оркестровой яме валялись кое-какие инструменты. На дирижерском пюпитре лежали открытая на первой странице партитура, покрытая слоем паутины. Со сцены был виден широкий центральный проход партера, устланный ковром и ведший в никуда. Кларет прошел к двери, из-под которой виднелся свет, и жестом показал нам ждать его снаружи. Мы с Мариной переглянулись.
Это была дверь в гримерную.
Сотни великолепных одеяний висели на металлических вешалках. Вдоль стены был ряд подсвеченных лампами зеркал. Стена напротив была увешана изображениями женщины неземной красоты. То была Ева Иринова, ворожея театральных подмостков. Женщина, для которой Михаил Кольвеник создал все это великолепие. Тогда мы ее и увидели.
Напротив зеркала сидела дама в черном, молча глядя из-под вуали на свое отражение. Услышав наши шаги, она медленно обернулась и приветливо кивнула.
Только тогда Кларет провел нас внутрь. Мы приблизились к ней, словно к призраку — со смесью ужаса и восторга, — и остановились в паре метров. Кларет, настороженный, остался стоять на пороге. Женщина снова повернулась к зеркалу, изучая свое отражение.
Вдруг она невероятно изящным движением подняла вуаль. В тусклом свете лампочек мы увидели в зеркале ее лицо. Точнее, то, что оставила от него кислота.
Голые кости и увядшая кожа. Бесформенный рот — просто щель на обезображенном лице.
Глаза, которые не могли плакать. Мы видели кошмарное уродство, обычно скрытое под вуалью.
Открыв свое лицо и обнаружив свою личность, дама таким же изящным жестом опустила вуаль и жестом показала, чтобы мы садились.
Последовала длительная пауза.
Ева Иринова протянула руку к лицу Марины и погладила его, касаясь щек, губ и шеи. Она читала Маринину красоту и совершенство дрожащими жадными пальцами. Марина сглотнула. Женщина опустила руку, и я увидел под вуалью блеск ее глаз без век. Лишь тогда она заговорила и поведала нам историю, остававшуюся тайной больше тридцати лет.
— Свою родную страну я видела лишь на фотографиях. Все, что я знала о России было мною почерпнуто из анекдотов, россказней и воспоминаний других народов. Я родилась на корабле, шедшем по Рейну, в послевоенной разрухе и запустении.
Много лет спустя я узнала, что моя мать, уже беременная мною — больная и всеми покинутая — тайно пересекла российско-польскую границу, спасаясь от революции. Родив меня, она скончалась. Я так и не узнала, как ее звали и кто был моим отцом. Ее похоронили на берегу реки в безымянной могиле, а меня взяли на воспитание близнецы Сергей и Татьяна Глазуновы, актеры из Санкт-Петербурга, которые путешествовали на том же корабле. Как сказал мне Сергей впоследствии, сделали они это не только из сострадания, но и потому что я родилась с глазами разного цвета, что считается хорошей приметой.
Благодаря изворотливости и умелым манипуляциям Сергея в Варшаве мы примкнули к цирковой труппе, направлявшейся в Вену. В моих первых воспоминаниях фигурируют члены этой труппы и их звери. Цирковой шатер, жонглеры и глухонемой факир по имени Владимир, который ел стекло, выдыхал огонь и часто дарил мне бумажных птичек, которых делал якобы с помощью магии.
Вскоре Сергей стал директором труппы и мы поселились в Вене.
Цирк был моей школой и домом. Уже тогда мы знали, что он был обречен. Ситуация на мировой арене становилась более гротескной, чем пантомимы наших паяцев и танцы цирковых медведей. Очень скоро в нас перестали нуждаться. Двадцатый век стал самой большой цирковой площадкой в истории мира.
Когда мне исполнилось семь или восемь, Сергей заявил, что мне пора зарабатывать себе на пропитание.
Я стала принимать участие в представлениях — сначала в качестве талисмана Владимира, а потом с сольным номером, в котором я пела колыбельную медведю.
Однако мой номер, который изначально задумывался лишь как связка, имел успех. И больше всех это удивило меня. Сергей решил расширить поле моей деятельности. Так я начала петь песни нашим больным, голодным львам, стоя на ярко освещенном помосте. И звери, и публика заворожено слушали меня. В Вене пошли слухи о девочке, которая звуками своего голоса могла укрощать диких зверей. И люди платили деньги, чтобы посмотреть на меня. Мне было девять лет.
Сергей быстро понял, что цирк ему больше не нужен. Девочка с глазами разного цвета действительно приносила удачу. Он оформил все документы и официально стал моим опекуном, после чего объявил труппе, что мы теперь были сами по себе. Сергей намекал на то, что цирк — неподходящее место, чтобы растить девочку. Когда выяснилось, что кто-то на протяжении многих лет клал себе в карман часть прибыли цирка, Сергей с Татьяной обвинили Владимира, а потом еще добавили, что он позволял себе некие вольности в отношении меня. Так Владимира осудили и посадили в тюрьму, хотя денег он не брал.
В честь ухода из труппы Сергей купил роскошный автомобиль, стал одеваться как денди и дарить Татьяне дорогие украшения. Мы сняли виллу в венском лесу.
Было неясно, где Сергей берет деньги на всю эту роскошь. Я дни и ночи напролет пела в театре рядом с Венской оперой в спектакле под названием «Московский ангел». Меня назвали Евой Ириновой — это имя Татьяна встретила в каком-то успешном бульварном романе. Впоследствии таких заимствований было множество.
По совету Татьяны я стала брать уроки у преподавателей вокала, актерского мастерства и танцев. Я либо выступала, либо репетировала. Сергей не разрешал мне заводить друзей, ходить на прогулки, оставаться одной или читать книги. Он говорил, что это для моего же блага. Когда я вошла в подростковый период, по настоянию Татьяны мне была выделена отдельная комната. Сергей неохотно согласился, но ключ оставил себе. Он часто возвращался домой пьяным и пытался войти в мою комнату. Как правило, он бывал настолько пьян, что просто не мог попасть ключом в замочную скважину. Но не всегда. В те годы единственной моей отрадой были овации безликой публики. Со временем одного лишь воздуха мне стало мало для жизни.
Мы часто путешествовали. Слухи обо мне вышли за пределы Вены и достигли ушей парижских, миланских и мадридских импресарио. Сергей и Татьяна неотлучно следовали за мной. Само собой, я не видела ни гроша из денег, которые на мне зарабатывали, и даже не знала, что с ними делают. У Сергея вечно были долги и кредиторы. По его словам, все это было из-за меня, так как деньги уходили на мое содержание, а я никак не отблагодарила их с Татьяной за все, что они для меня делали. Сергей внушил мне, что я была глупой, ленивой, невежественной неряхой. Я была полнейшим ничтожеством, недостойным ничьей любви и уважения.
Но это было неважно, ведь, — шептал мне на ухо Сергей, испуская запах алкоголя, — они с Татьяной всегда будут рядом, чтобы заботиться обо мне и защищать меня от мира.
В день своего шестнадцатилетия я осознала, что противна самой себе и даже в зеркало смотреть мне тошно. Я стала голодать. Мое тело тоже было мне ненавистно, и я прятала его под грязными лохмотьями. Однажды я нашла у Сергея в мусоре старую бритву, забрала ее себе и часто резала себе руки, чтобы наказать себя. Татьяна каждый вечер молча обрабатывала порезы.
Два года спустя в Венеции увидевший меня на сцене граф сделал мне предложение.
В тот вечер Сергей зверски меня избил.
Он разбил мне лицо и сломал два ребра. Татьяна при помощи полицейских смогла его удержать, но Венецию я покинула в карете скорой помощи.
Мы вернулись в Вену, где финансовые проблемы Сергея приняли совсем серьезный характер. Нам угрожали. Однажды ночью кто-то пытался поджечь дом, пока мы спали.
За несколько недель до этого Сергею поступило предложение от мадридского импресарио, который видел мое успешное выступление. Даниель Местрес, как он себя называл, участвовал в реконструкции старого Королевского театра, и хотел открыть новый сезон с моим участием. Так мы собрали чемоданы и практически сбежали из Вены на рассвете, направляясь в Барселону. Мне должно было вот-вот исполниться девятнадцать лет, и я молила небо, чтобы оно не позволило мне дожить до двадцати. Тогда я стала подумывать о самоубийстве: меня в этом мире ничто не держало. Уже давно я была мертва, просто не понимала этого. В то время я и повстречала Михаила Кольвеника…