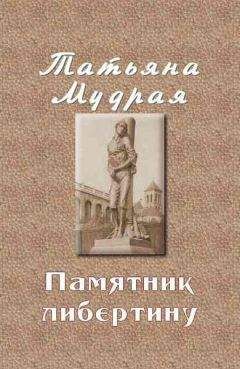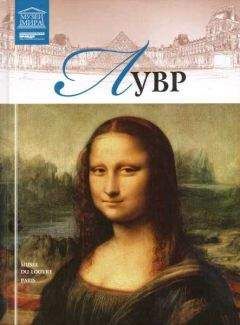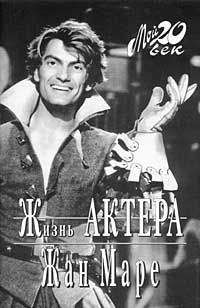— А, явились, наконец, — сказал тюремщик, который только что запер дверь за доминиканцем. — Ждут с нетерпением.
— Приказ уголовного судьи, — ответил тот. — И, кстати, мой долг.
— Мальчишка прямо допёк его просьбами, — ответил тюремщик. — Мсье де Суакур всё убеждал, что завтра он досыта наглядится на вас, но что поделаешь — это вроде последнего желания. Уважить надобно.
Когда дверь за палачом дважды звякнула, открывшись и вновь захлопнувшись, шевалье поднялся из своего кресла перед камином.
«Совсем безбород, черты лица тонкие и правильные, стан гибок, как у девушки, — подумал Шарль-Анри. — Право, ему и шестнадцати не дашь».
Но куда более палача поразило спокойствие будущей жертвы: лицо слегка побледнело, глаза были красны, будто от пролитых слёз, но когда шевалье приветствовал вошедшего, улыбка появилась не на одних губах.
— Извините, что из-за моей настойчивости вам пришлось прервать свой отдых. Перспектива непробудного сна, в который вы скоро меня погрузите, сделала меня эгоистом, — сказал Жан-Франсуа. — Ведь это вы отрубили голову графу де Лалли-Толлендалю?
Вопрос был задан с такой простотой и непосредственностью, что Сансон не знал, что ответить.
— Говорят, вы его страшно изуродовали, — продолжал де ла Барр. — Сознаюсь, что это несколько пугает меня. Я всегда был немного франтом, как все мы, либертины, и никак не могу свыкнуться с мыслью, что моя бедная голова, которая, похоже, выглядит недурно, обратится в сущее пугало.
— В том, что тогда произошло, есть лишь доля моей вины, — наконец выговорил палач. — Случилось так, что в молодые годы мой отец и де Лалли случайно встретились накоротке, и шевалье — возможно, чтобы выказать храбрость и присутствие духа, — попросил того при случае покончить с ним одним ударом клинка. Отец мой обещал: но что их разговор воплотится в дело, не верили оба.
— Ну конечно, — ответил Жан-Франсуа. — Один праздновал свадьбу, другой в компании таких же бесшабашных повес напросился на бал и из чистого куражу не отступился, хотя их всех и просветили насчёт личности жениха. Более того, он заявил, что рад знакомству и если вернутся времена Шале или Сен-Мара, то хотел бы твёрдо на него рассчитывать.
— За чем дело стало! — ответил новобрачный. — Казнить всякую шваль наподобие воров, насильников и убийц я, может быть, и предоставляю подмастерьям, но истинного дворянина не упущу. Им положена чистая, быстрая и искусная смерть — по крайней мере насколько позволят судебные предписания.
— Ба! Так вы даёте слово, господин Парижский? — засмеявшись, спросил Лалли.
Конечно, тот подтвердил. Но ко времени, когда шевалье де Лалли осудили за измену, мой батюшка постарел, левую руку его парализовало, и приговоров он больше не исполнял, препоручив всё наследнику дела. По счастью, он тогда настоял хотя бы на своём присутствии.
Что сыграло пагубную роль, я не знаю: всё вместе. Кавалер трудно переживал несправедливость, с какой его осудили, но также в некоей мере — измену старшего из нас своему слову. Его буквально били корчи, мне и то стало не по себе. Оттого я лишь покалечил беднягу: благо что у отца откуда-то взялись силы вырвать меч из моих полуобморочных рук и докончить дело как следует.
Далее Шарль Анри прибавил, что обезглавливание — казнь, более всего приличная дворянину. Для выполнения её столь же необходимы присутствие духа и мужество казнимого, сколько сила и ловкость исполнителя.
— Штучная работа, — пошутил де ла Барр. — Делается прямо страшно от мысли, что даже её могут механизировать и поставить на поток, как стало модно в наш просвещённый век.
Это высказывание, как вы понимаете, предварившее изобретение гильотины, порядком удивило Сансона и подвигло на ответную реплику.
— Вы на редкость спокойно и твёрдо говорите о том, что для других составляет предмет ужаса и фигуру умолчания, — сказал он. — Так вот, я ручаюсь: если так пойдёт и далее — вы будете избавлены от бесполезных страданий, а красота ваша нимало не потерпит ущерба.
— Я рад, — сказал шевалье, — и в свою очередь клянусь, что вы будете довольны мною. Заключим же пакт более серьёзный, чем между де Лалли и вашим батюшкой.
И они пожали друг другу руки, как двое людей благородного сословия, кем по сути оставались.
Наутро де ла Барр с дощечкой на груди, на которой было написано крупными буквами: «Нечестивец, богохульник и окаянный святотатец», вошёл в телегу палача. Исповедник его, упомянутый отец Филипп, сел около него справа, уголовный судья хотел было поместиться с другой стороны, но тут брови шевалье слегка сдвинулись к переносице от гнева: он обернулся и сделал знак Сансону, шедшему позади него, приглашая занять это место.
Надо напомнить вам, мой слушатель, что осуждённому и кому бы то ни было сидеть с палачом в одном, так сказать, экипаже — значило усугубить свой позор. Даже прокатиться в порожней телеге — срам и весьма плохая примета. С какой стати Суакур сделал такой неординарный жест, мне неведомо: возможно, по причине смутных угрызений совести, приведших его в конце концов к безумию. Нет, право, не знаю. Шевалье же, когда всё уладилось, произнёс с неким удовлетворением:
— Вот так гораздо лучше; чего мне бояться, когда я нахожусь между целителем души и врачом тела?
Так, меж двух стражей, юношу отвезли к церкви Святого Вульфранка, перед папертью которой он, как полагалось по обряду, должен был всенародно сознаться в своем преступлении, но он категорически воспротивился тому, чтобы озвучить принятый в этом случае текст.
— Признать себя виновным, — объяснил он, — значило бы солгать и оскорбить Бога. Пойти на такое я не посмею.
Когда прибыли к эшафоту, палач, заметив сильную бледность осуждённого, пристально взглянул на него. «Я буду в состоянии сдержать своё слово, — означал этот взгляд, — только если вы сдержите ваше собственное».
— Не бойтесь за меня, — ответил шевалье негромко, так что слышали это лишь двое. — Будьте уверены, я не задрожу, как малое дитя.
Пока он стягивал с плеч камзол, с головы — треуголку, а с шеи — табличку с гнусной надписью, чтобы ничто не помешало финальному акту, отец Филипп задыхался от волнения и еле сдерживаемых слёз. Шарль-Анри подал знак четырём помощникам, которых привёз с собой, и велел подать меч — примерно в ладонь шириной, с закруглённым концом, длинной рукоятью и прямым перекрестьем. Де ла Барр попросил показать ему это орудие: оценил массивное навершие и отменную сбалансированность клинка, попробовал лезвие ногтем и, уверившись в хорошем закале и отличной заточке, сказал исполнителю:
— Что же, я вполне удовлетворён. Действуйте и будьте уверены, что я не дрогну и не подведу вас.
Тот с недоумением ответил:
— Но, шевалье, обычай требует, чтобы вы стали на колени.
— Пусть это делают те, кто преступил закон. Невинным положен иной обряд, чем виновным.
С этими словами Жан-Франсуа Лефевр де ла Барр повернулся спиной к своей смерти, а лицом и открытым взглядом — к толпе, которая никак не могла вникнуть в действо, что развёртывалось перед нею.
И знаете, чем там закончилось?
Меч правосудия, направленный горизонтально земле, ударил по шее с небывалой силой и точностью, так что юноша некоторое время стоял с полуулыбкой на бледных устах и широко открытыми глазами, будто узрев нечто невидимое прочим. Потом колени его подломились, голова слетела с плеч, и он рухнул на помост бездыханным.
Толпа ахнула, отпрянула, раздались вопли, истерические рыдания, проклятья… Она получила зрелище, коего никак не предвкушала и никоим образом не была на него настроена: вместо фарса или гиньоля — настоящую трагедию.
Не забывайте, мой слушатель, что издевательство над живым было по умолчанию опущено. Однако пока длилось смятение, Сансон со своими парнями бережно разместил тело, накрыв заранее приготовленными книгами, поджёг спрятанные под эшафотом поленья и крикнул массам, что им стоит отодвинуться подальше, если не хотят составить шевалье компанию.
Такая смерть, естественно, не удовлетворила и не успокоила ни тех, ни этих. Поговаривали, что безутешная аббатиса, за немалые деньги получив от властей урну с прахом, распорядилась замуровать её в фундаменте монастырской церкви неподалёку от родника, а не под входными плитами, как делают с раскаявшимся грешником, дабы всякий попирал его ногой. Последнее, в отличие от первого, хоть как-то вмещалось в рамки общепринятого. Сплетничали также, что Сансон якобы похвалялся перед зрителями мастерским coup de foudre, заимствованным у арабов. В действительности Шарль-Анри от вящего облегчения пробормотал себе под нос нечто вроде: «Вот и славно — насилу одолел. Бедняжка хоть не мучился».
Разумеется, по стране вдоль и поперёк прокатился шквал возмущения, Да и Вольтер со всей искренностью подлил масла во всенародный огонь. «Мое сердце поражено, — писал он. — Как! Это творит народ — такой мягкосердечный, легкомысленный и веселый! Арлекины! Людоеды! Я не хочу больше слышать о вас. Спешите от костра на бал и с Гревской площади в комическую оперу. Колесуйте Каласа, вешайте Сирвена, сожгите пять юношей, которых следовало бы посадить на шесть месяцев в Сен-Лазар. Я не хочу дышать тем воздухом, каким дышите вы!»