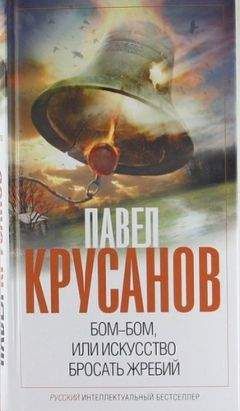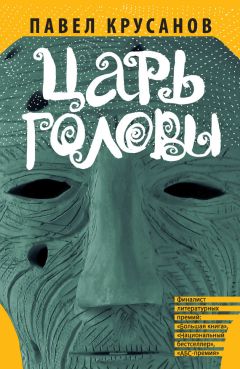В свою очередь, Норушкин тоже стал регулярно бывать в доме Усольских на Казанской улице и даже сделался там своим человеком, о чём ясно свидетельствовал хотя бы тот факт, что однажды царственная маменька вручила ему два фунтика из крафт-бумаги: в одном была жасминовая добавка молихуа, в другом — сушёные листья цаган-даля. Несомненно, был бы и третий фунтик, но таинственный рубарб к этому времени в закромах Усольских изошёл. Впрочем, как вскоре выяснилось, тут маменька слукавила, поскольку стоило Илье отважиться и с соблюдением всех подобающих формальностей сделать Маше предложение — сразу же нашёлся и рубарб.
О том, что Маша предложение с открытым сердцем приняла, не стоит и говорить; Даша же под напускной торжественностью едва утаивала озорную мину, из чего Норушкин заключил, что в тайные детали его предосудительной — разумеется, с ханжеских позиций света — связи с её сестрой она посвящена. А может, всё было ровно наоборот — открыто ликовала Даша, а Маша напускала на себя парадность — и в самом деле, не лизать же им глаза.
— Пора, голубчик, право слово, пора, — сказал Илье князь Усольский, за последние два месяца и впрямь заметно спавший с тела. — Время не ждёт — агенты наши повсеместно усугубление зла и сгущение тьмы наблюдают, а вы всё без наследников. Не дело.
Норушкин понял его слова, как вполушутку данное ветхозаветное напутствие плодиться, и, разведя руками, с лицедейской фатальностью ответил, что, мол, на всё воля Божья и во всяком, пусть даже самом пустяковом, начинании промысел Его.
Обговорив все стороны животрепещущего дела, свадьбу решили сыграть после Пасхи, к концу учёбы жениха, что, кажется, не совсем пришлось по нраву действительному тайному советнику, который предложил венчаться молодым прямо перед Рождественским постом, однако царственная маменька решила, что спешить — во имя соблюдения благопристойности — не надо: в конце концов, «они ведь только пару месяцев знакомы».
— И всё же лучше бы, голубчик, поспешить, — приватно сказал за сигарой Усольский. — О брате вашем сведений покуда нет, зато недавно возле Бийска обнаружен труп сопровождавшего его казака. Тело всё растерзано — печень, сердце и глаза вырезаны, а вместо них вложены каменья.
В некотором смущении Норушкин ответил, что готов обвенчаться сию минуту, хотя, признаться, и не понимает, как связана его женитьба со смертью бедного казака.
— Если чотгоры Николая в жертву сильному принесут и тем беду на Россию накликают, вы, голубчик, разумеется, данным вам всеможеством врагу ответите, а это, полагаю, значит — смута, брат на брата встанут. Вы же в этом случае в роду последним оказываетесь. Детки вам нужны, Илья Николаевич. И поскорее.
Нельзя сказать, чтобы Норушкин остался полностью доволен разъяснением, но уточнять отчего-то не стал, тем более что окончательное слово по делу свадьбы всё равно осталось за матроной.
Зато уж с обручением тянуть не стали — на Савватия Соловецкого Усольские собрали у себя родню, друзей и, пригласив мать Ильи с двумя его тётушками, объявили о помолвке, после чего, милостиво разрешив наречённым поцеловаться, попросили всех к столу, за которым хозяин скромно ограничился одной только ложкой гусиного паштета с трюфелями, что вовсе не должно было служить примером остальным, поскольку для них известный на всю столицу здешний повар состряпал двенадцать перемен одна другой диковинней, так что салат из помидоров, лука, сладких перцев, зелени, спаржи, сырых шампиньонов, яблок, тмина, оливок, брынзы, виноградных улиток и прованского масла выглядел в их череде простецким, заурядным блюдом.
13
Вскоре после помолвки Илья повстречал в Университете Циприса. Они не виделись примерно с середины августа; за это время Леня осунулся, побледнел, под глазами у него появились тени, и выглядел он так, словно не первый день уже ночевал в чужой постели, — небрит, засаленные волосы нечёсаны, одежда неопрятна, пуговица сорочки болтается на нитке, как удавленник в петле. О склонности Лёни к такого рода одичанию Норушкин прежде не подозревал — даже заигрывая с кокаином, тот редко превышал выверенную для себя на опыте норму и на людях, по крайней мере, оставался чистоплотен. Впрочем, как Илья не раз уже убеждался, о манерах и склонностях человека следует судить по наблюдениям, сделанным не в те моменты, когда человек находится на публике, а в те, когда он думает, что полностью сокрыт от посторонних глаз. Хотя наличие подобных наблюдений, в свою очередь, свидетельствует о манерах и склонностях наблюдателя — шпионство никогда в чести как будто не было.
— Тебя, везунчика, поздравить можно, — не здороваясь, угрюмо буркнул Циприс. — Кругом только и разговоров, что о твоём обручении. Невеста красавица, да и папаша породистый, в чинах. Ты знаешь хоть, что он целым управлением при Департаменте полиции заведует?
— Знаю. Князь службой сильно увлечён. Интересное, должно быть, дело делает — сплошь ворожба и эзотерические выкрутасы.
— Топтун он царский. Сам свободу барскими сапожками топчет и топтунами командует — вот и всё его дело.
— А ты, значит, в социалисты подался? На нелегальных посиделках для конспирации вино пьёшь и селёдкой закусываешь — мол, если кто нагрянет, так у нас попойка… То-то я смотрю, вид у тебя какой-то траченый, подпольный. Бурлаков на Волге от гнёта самодержавия освобождать собрался?
— А если так, то что с того?
— Ничего. Плевать я хотел на свет твоих гуманистических идей. Да мне, если хочешь знать, само понятие «гуманизм» как результат отрицания всего сверхчеловеческого и, значит, в первую очередь Бога не только чуждо, но и глубоко противно.
Они спустились в университетский двор и, пройдя между тёмно-красных корпусов, вышли к саду ботанической аудитории, где, отыскав местечко, присели у ограды на скамью. Норушкин отвернул у трости набалдашник, налил в него, как в стопку, из вделанной в полый бамбук фляжки абсента и протянул набалдашник Ципрису.
— На-ка вот. Это тебе не конспиративное пойло — может, подрумянишься.
Лёня молча выпил.
— А откуда ты о службе князя Усольского знаешь?
— От социалистов и знаю.
— Ага, угадал! Княжеская дочка милостью не удостоила, так мы в отместку ей в смутьяны дёрнем. Вот он где — марксизм!
Циприс мрачно посмотрел на безупречно белый шарф Норушкина.
— Знаешь, я твои велосипеды продал, а на вырученные деньги револьвер, кокаин и проституток купил. Ты нынче не в нужде, так что не сердись, пожалуй, — я всё тебе потом отдам. Веришь ли, не хотел ничего сначала говорить, а тут как толкнуло что: дай-ка этому барчуку самодовольному гадость какую скажу — и не удержался.
— Зря продал, велосипеды хорошие были. Выходит, ты из тех людишек, что порядочными только тогда бывают, когда кто-то нужен им, но не тогда, когда они нужны кому-то сами. Это что, тоже марксизм?
— Марксизм-то тут при чём?
— Ай! — махнул рукой Илья. — Что эсеры, что марксисты — все на одну колодку.
Листья на ясенях уже были жёлтыми и частью облетели, а тополя, казалось, по-прежнему живут в Медовом Спасе и власти октября не признают, как полномочий самозванца, Циприс принял от Ильи очередной набалдашник абсента, подпустил в глаза зловещего огня, тяжело вдохнул и решительно выдохнул.
— Ничего, она меня ещё попомнит, вот увидишь… — Лёня сморгнул выжатую полынным духом слезу. — Ты знаешь что, Илюша… Ты, если подчистую не зазнался, меня на свадьбу пригласи. И не смотри, что я подлец, — когда ещё мне Дашу встретить доведётся…
14
На Введение шёл мягкий, смирный снег, белое небо висело низко, и с гремучих шлемов колоколен в это низкое небо срывались галки и вороны. Норушкин с укутанной в драгоценную шкуру невестой ехал на извозчике по Александровскому проспекту, и город вокруг них делал им красиво. Илья подумал, что ведь это только в пёстром Сиаме зиму представляют как напасть, как недуг мира, как пустоту, сон, испуг, а между тем снег, если к нему приглядеться, прекрасен. Разменянный на мелочь, он — звёзды, крошечные паутинки, у него есть лучи, он блестит и знает, далеко ли до облаков, поскольку, прежде чем лечь, летает. Он благозвучно скрипит под ногами, он одевает голые деревья, чтобы тем не было стыдно, из него можно вылепить бабу, дети кладут его друзьям за шиворот, он белый, у него холодная воля, и на нём оставляет следы даже кошка. Этого достаточно, чтобы им любоваться.
По формальной версии Илья должен был сегодня сопровождать Машу к модистке на примерку очередного платья — до свадьбы та была намерена изрядно обновить девичий гардероб, — однако, разумеется, они прямиком направились на Каменноостровский, где, утомив друг друга в многогрешной постели, а после освежившись в мраморной ванне, решили перенести примерку на завтра, о чём и собирались теперь известить заждавшуюся портниху.