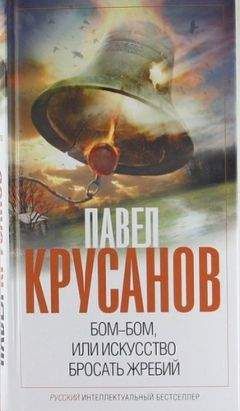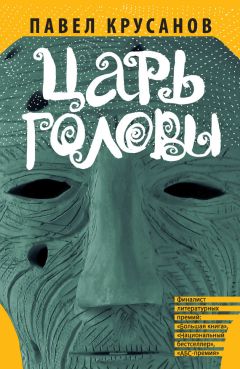Три дня непрерывной бомбардировки не достигли цели — гарнизон не был сломлен, стены крепости, на ходу латаемые защитниками, устояли. Да и Безбородко в меру сил поддерживал славный форт, по ночам на лодках отправляя из Биргу через воды Большой гавани подкрепление и забирая раненых. На третий день Норушкин во главе полусотни храбрецов дерзнул даже совершить отчаянную вылазку — взорвав несколько турецких орудий, захватив басурманский полковой штандарт и отбив десятка полтора пленённых мальтийцев и мальтиек, он посеял панику в стане врага, однако аскеры, оправившись от замешательства, пошли в контратаку, прорвались за внешние укрепления и ринулись на главные бастионы. Впрочем, здесь их ждала конфузия — не хватило фашин, чтобы толком засыпать ров, да и осадные лестницы оказались слишком короткими для высоких крепостных стен. Ко всему, рыцари применили зажигательные бомбы неизвестной конструкции — они взрывались над головами осаждавших и накрывали их облаком рыжего чадящего огня, который навек запечатывал смолистой копотью зрачки и дотла сжигал людские тени, ну а кто же — прости Господи — будет всерьёз иметь дело с человеком без тени? Объятый паникой неприятель, не дожидаясь, пока во рву вспыхнут фашины и отрежут путь к отходу, с большими потерями отступил.
Известие о захвате штандарта неверными привело Пеленягре-агу в такую ярость, что печень разом выплеснула ему в утробу всю скопленную желчь, отчего слюна его стала горькой, а белки глаз почернели, как протухлые китайские яйца «сун хуа дань», что означает «яйца, снесённые сосной». Воспылав лютой ненавистью к неукротимому форту, Пеленягре-ага разорил и сжёг в округе все мирные мальтийские селения, обложил с суши Биргу и Сенглею, после чего выслал в Большую гавань на шлюпках ночные дозоры, выставил дополнительную батарею на мысу в Слиме и другую — на мысу в Калкаре, так что теперь непокорная крепость, лишённая всякой помощи, обстреливалась разом с трёх сторон. Для форта Священномученика Эразма настали тяжкие дни. В результате не затихающего ни на миг шквального огня в стенах укреплений образовались огромные бреши, заделывать которые рыцарям было уже не по силам, — оборона цитадели давалась теперь слишком дорогой ценой и в глазах многих защитников теряла всякий смысл.
Между тем из Петербурга уже прибыли войска в напудренных париках, однако призвавший их император велел покамест расположить полки вокруг пруда, дабы не позволить туркам раньше срока (покуда не иссякнет царская охотка) улизнуть с Мальты, а сам, не покидая вышки, куда ему подавали завтрак, обед и ночную вазу и где была устроена палатка для отдыха, с увлечением следил в зрительную трубу за самовольно развивающейся историей. Посылать на остров помощь венценосный рыцарь не спешил, желая знать наверное — способны ли его гвардейцы сравниться в доблести с мальтийскими кавалерами и капелланами, затмившими двести с лишним лет назад все образцы дотоле беспримерных самоотвержений и геройств, или же нет? Немецкое учёное любопытство, готовое препарировать каждого встречного червя, заглушило в многоголосом хоре царской крови простосердечный русский basso buffo — «наших бьют!».
На шестой день бомбардировки, из последних сил отразив ещё два штурма, офицеры-семёновцы, составлявшие рыцарский костяк гарнизона крепости, отправили в Биргу с голубиной почтой известие о своём положении. Слова, свидетельствующие о их беде, были столь тяжелы, что для письма пришлось делать упряжку из шести голубей.
Изучив послание, военный совет, сиречь капитул Ордена, дал согласие на сдачу цитадели. Однако прозорливый Безбородко сознавал, чего ждёт от этих жутких игрищ Павел, поэтому, подобно Ла Валлетте, желавшему выиграть время, по праву великого магистра велел продолжать оборону. Когда известие об этом достигло форта Священномученика Эразма, защитники ужаснулись и отправили в Биргу петицию: «Мы готовы сложить головы за государя, честь полка и славу Ордена, мы готовы лишиться живота за отечество и принять смерть за Господа нашего Иисуса Христа и веру православную, но мы не готовы позволить басурманам бесславно перерезать себя как скот. Если великий магистр не отдаст приказа к эвакуации, мы пойдём в атаку и погибнем со славою в бою». Петицию подписали все офицеры-семёновцы, кроме капитана Норушкина. Безбородко незамедлительно ответил: «Кавалеры свободны от наряда. Приказываю покинуть форт. Капитану Норушкину принять под начало смену». Большего бесчестья, нежели замена во время боя, ни для рыцаря, ни для офицера лейб-гвардии придумать было невозможно. Защитники, опомнившись и устыдясь, послали в Биргу третью почту — с мольбой отменить позорный для них приказ и позволить им продолжить службу на гибельных бастионах. Безбородко для порядка поразмыслил и разрешил семёновцам остаться — с непременным обязательством смыть пятно с их орденских плащей.
Оттоманцы тем временем засыпали ров перед фортом, положив под картечью госпитальеров не одну сотню аскеров, и пробили траншеи к самому берегу Большой гавани, куда ночью, прорываясь сквозь дозоры Пеленягре-аги, иногда всё же высаживалось подкрепление из Биргу. После завершения этих работ крепость нельзя было удержать уже никакими силами — туркам лишь оставалось решиться на последний штурм.
Ясным утром в рождество Иоанна Предтечи, покровителя Ордена, защитники форта Священномученика Эразма причастились, отнесли раненых к проломам в стенах и вложили каждому в правую руку шпагу для поражения врага, а в левую — кинжал для последнего удара в собственное сердце. В тот же день под оглушительный вой труб и грохот тулумбасов османы пошли на приступ, и к вечеру под бешеным напором неприятеля крохотный форт пал. Шапсуги, в предвкушении знатного грабежа, первыми ворвались в крепость и учинили беспощадную резню. Из всех защитников форта в живых остались только четверо — им чудом удалось добраться вплавь до Биргу. Один из них был поручиком Московского полка, двое других — спасённые Норушкиным из турецкого плена мальтийцы: отец с шестнадцатилетней дочерью. Четвёртым был сам Александр Норушкин — раненого пикой в бок, обескровленного и беспамятного, его привязали к сорванному с купола церкви ядром деревянному кресту и отбуксировали по воде трое остальных.
В двухнедельной битве за форт погибло сорок два семёновца, сто пять московцев и девяносто шесть мальтийских ополченцев. Туркам эта победа стоила двух тысяч жизней. Впоследствии стало известно, что Пеленягре-ага, глядя через залив с руин захваченной твердыни на форт Святого Ангела и другие бастионы в Биргу, горестно воскликнул: «Сколько же будет стоить бык, если за телка запросили такую цену?!»
Возможно, именно затем, чтобы сбить непомерно вздутую цену, Пеленягре-ага решил нагнать на рыцарей страху. Велев изготовить сотню плотов, он установил на них колы, смазанные духмяным розовым маслом пополам с бараньим жиром, посадил на эти плавучие колы трупы защитников крепости и пустил их, как пускают в весенних лужах кораблики дети, по глади Большой гавани в сторону форта Святого Ангела.
Но рыцари не дрогнули, напротив — решились на ответ: как только Безбородко разглядел жуткую флотилию, он немедленно дал из Биргу по позициям турок несколько пушечных залпов, и аскеры с ужасом узнали в граде посыпавшихся на них ядер головы соратников, угодивших ранее в плен.
5
Когда капитан Норушкин очнулся в первый раз, он увидел над собой туман, сквозь который, как пучина сквозь лёд, как огрызок сквозь яблоко, как уготованный жребий сквозь людскую тщету, проступало малозвёздное небо. Раскинув руки, он лежал на воде и не мог шевельнуться, но при этом не тонул и даже куда-то плыл, сопровождаемый тихим водяным лепетом. Он промок, но бок его пылал в огне, воде не подвластном. Огонь жёг ровно, без всполохов и угасаний, будто дотошный истопник следил за жестоким пламенем. Страха не было — Норушкина переполняло равнодушие, то самое, которое одновременно и выдержка, и безразличие. Он был генералом армии равнодушных. Прежде чем вновь погрузиться в чёрную хлябь беспамятства, капитан покрутил во рту языком и удивился прыти перевозчика, не обнаружив там монеты. «Вперёд взял, бестия», — была его последняя догадка.
Открыв глаза вновь, Норушкин ничуть не удивился, увидев рядом ангела. На ангеле был опрятный льняной сарафан, русые его волосы были заплетены в толстую косу и пахли узой, юная кожа блестела, как навощенная, а голубые очи смотрели Норушкину в самое сердце. Густой запах бортины также не смутил капитана: в конце концов, подумал он, что есть Царствие Небесное со всем своим непорочным ангельским воинством, как не безупречно учреждённый пчелиный улей с его царицей и армией неутомимых девственниц, всегда готовых к праведным трудам, но и способных насмерть постоять за медовую отчизну.
— Благослови на встречу с Господом, чистая душа, — не зная наверное, к какому чину по Дионисию Ареопагиту отнести сего прекрасного вестника, попросил капитан.