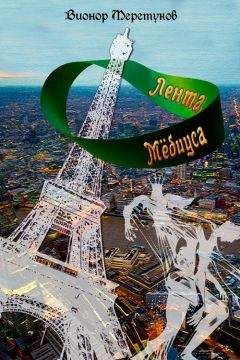…Держа в руке стакан, брат смотрел на порозовевшие к вечеру снежные просторы, на деревеньку на косогоре, с дымами над крышами изб, на низкое зимнее солнце, потом перевел взгляд на меня и, глубоко вздохнув, тихо сказал:
— Вот что надо рисовать, — он обвел рукой все, что видели глаза, — вот эту благодать… А ты малюешь всякую х…ню, какие-то квадраты и разноцветные пятна…
Я в то время увлекался абстракционизмом и только за ним признавал право на существование. Но спорить не стал…
* * *
…Мы втроем — Слава, Саша и я — сидим на балконе в плетеных креслах, пьем очень крепкий кофе из широких больших чашек, обмакивая в них круасаны. Дурацкий французский обычай, к которому меня приучает Слава. А я люблю, когда свежий, еще теплый, круасан хрустит на зубах.
На балконе, в доме напротив, на низком раскладном стульчике сидит мечтательный мальчик и читает книгу, держа ее на коленях.
Несмотря на осень, Слава надела легкий соблазнительный халатик, в котором она мне так нравится, и, скрестив ноги, демонстрирует притихшему миру свои восхитительные колени.
На наших головах покоятся широкополые соломенные шляпы, как бы оберегая нежные макушки от яркого солнца, которого нет и в помине…
Я придирчиво оглядываю округлившийся животик моей дочери, ее беззаботный чистый лик с вздернутым носиком и думаю, что ждет того, кого она носит во чреве?..
Я откладываю карандаш и тетрадь в сторону, поднимаю глаза и вижу, как верхушка Эйфелевой башни, возвышающаяся над крышами домов, словно плывет в облаках — голубых облаках Парижа…
Одно облако, оторвавшись от других, на мгновение замирает, приобретая невероятное сходство с бесконечно дорогим мне лицом…
Сходство поражает меня — мне даже видятся серые дивные глаза, которые, казалось, отражали свет миллионы лет назад погасших звезд, и серебристые волосы, что струились когда-то в моих ладонях… Я до сих пор помню их ласковую шелковистую тяжесть…
Потом это сходство исчезает. Облако-видение размывается другими, набегающими, нетерпеливыми и вечными в своем движении, облаками, и новое небо, новая жизнь, новые дороги открываются мне…
Вместо эпилога
На этом обрываются дневниковые записи Андрея Андреевича Сухова, сделанные им собственноручно в период, известный нам как…
Впрочем, этот исторический отрезок времени еще не закончился, так что не будем спешить с определениями и преждевременными оценками.
Несколько куцая концовка вызвала у меня досадливое ощущение незавершенности. Похожее чувство возникает и тогда, когда внимательно рассматриваешь картины художника Андрея Сухова.
Они полны тайн, загадок и недоговоренности… Возможно, это издержки — или особенности! — творческой манеры, и с этим уже ничего не поделать. Как ничего не поделать и с некоторой слащавой манерностью, припорошившей многие страницы этого в целом искреннего произведения. Это я отношу на счет неопытности самодеятельного литератора.
Я не мог отделаться и еще от одного ощущения: мне кажется, Андрей Андреевич вел "Дневник" не только для себя. Я думаю, он тешил себя надеждой, что его прочтет еще кто-то…
Если это соответствует действительности, тогда многое становится понятным и объяснимым…
Я уже много лет знаю Андрея Андреевича Сухова, был свидетелем — и даже участником — многих из описанных им событий и готов ручаться головой, что всё (или почти всё) здесь — правда.
Некоторые детали, впрочем, меня все-таки смущают.
В частности, вызывает недоверие сцена встречи автора с попом-расстригой, неким бывшим священником, назвавшимся Александром Ивановичем.
По наведенным мною справкам, никакого священника, носившего это имя и якобы лишенного сана за драку с иерархами, не существовало.
Таким образом, либо этот персонаж является плодом творческой фантазии автора, либо Александр Иванович совсем и не священник.
Возникают и другие вопросы…
Например, что означает последняя фраза в дневнике, перечеркнутая, вероятно, самим Андреем Андреевичем жирной чернильной полосой, но, тем не менее, доступная для прочтения:
"Время ходит по кругу"?..