— Видели тень, госпожа. Тень в небе.
— Знаю! — лаем ударил короткий ответ. — Еще что?
— Тень глядела на монастырь Святого Агапия перед заутреней. Монах по имени Обен опаздывал на службу, и его…
— Помогите! На помощь!
Отчаянный крик женщины доносился сверху, и стража с обнаженными мечами металась, не понимая, что произошло. Наткнулись на служанку герцогини — она кончалась, выкатив глаза и вздрагивая. Сопровождавшие госпожу рыцари лежали лицом вниз, поодаль, оба мертвые. Вопль Эрменгарды оборвался в черной вышине. В стороне от смятенной стоянки обоза, в зарослях, вновь запел соловей, которого герцогиня решила послушать не из шатра, а под открытым небом.
— …и он лежит сейчас без памяти в обители. Расшибся. Братия за ним ухаживает, молится за его здравие.
Альберта хищно оглянулась, затем вскинула голову и осмотрела небо. Легкие белые облачка плыли по голубому небосводу, летали птицы да светило солнце. Больше ничего. Но размеренная жизнь замка и его земель была нарушена, тронутая ночной порчей.
Ночью, непременно ночью. Ночью мир божий принадлежит мертвым и исчадиям тьмы. Бог даровал людям сон, чтобы они не видели, кто хозяйничает в ночи. «Язва, ходящая во мраке», — как сказано в девяностом псалме. Язва, летящая во мраке. Язва, глядящая, кого пожрать.
— И все? Не таи от меня.
— Пастушок из Молон-а-Ривена прибежал домой, бросив свиней с перепугу. Сказал — на него налетела большущая птица. Вроде бы он…
«Значит, и днем нападает?.. Что там умалчивает Адриен?»
— …помешался в уме. Хватался за голову и кричал, что в голове шумит и ползает.
Говорить этого не следовало. Но госпожа может наведаться в Молон-а-Ривен. Она не погнушается грязным мальчишкой-холопом, чтобы разузнать побольше. Лучше сразу выложить, что знаешь. Велит же она приводить к себе всех пилигримов, чтоб из-за занавески выслушать их россказни, когда они, сытно накормленные от ее щедрот, развяжут языки. Не говоря уже о списках с монастырских и епархиальных хроник, сделанных по ее распоряжению. И все об одном: о похищениях и странных пропажах людей. Адриен, сошедшись с Сильвианом, писцом и чтецом госпожи, тоже заглядывал в свитки и книги. Страшное и преувлекательное чтение. Настоящий кладезь для ученого монаха, что взялся бы составить благочестивый свод о кознях дьявола и его измывательствах над грешными людьми. Много истинных свидетельств из древности, от святых отцов, но немало и нынешних баснословных известий. Последние как раз и занимали Бертольфин больше всего.
И понятен ее всегдашний вопрос к паломникам: «Бывал ли ты в Аргимаре и давно ли туда ходишь?»
В Аргимар, поклониться чудотворным ризам Пресвятой Богородицы, направлялась некогда и герцогиня Эрменгарда. Там же, в одном переходе от святыни, рыскали люди герцога, отыскивая сгинувшую госпожу. Искали день, и два, и три, покуда на четвертый день не набрели в лесу на логово чумазых углежогов.
— Мы тута, монсьер рыцарь, с дозволения капитула. Не разбойники мы, упаси нас Христос. Истинный Бог, не ведаем, кто эта дама и откуда объявилась. Мы уже и осла запрягли, в Аргимар ее везть, и вдруг вы прискакали. Ни ниточки, ни золотинки мы на ней не тронули, святой Бенигн мне в том свидетель. Ведь ежели у нас окажется что золотое и серебряное, нас до кровавых соплей запытают, мол, откуда взяли, где украли да кого ограбили? Водицы ей дали и хлебушка, Христа ради, да хлебушка она не стала есть — знать, плох он на господский вкус. Где же нам белой просевной мучицы взять? И пальцем не касались, а синяки — не от нас, такую и нашли ее. Вот прошлой ночью и нашли, невдалеке здесь, у опушки. Сами чуть не рехнулись умом, такая страсть была. Загудело, как ветер по лесу прошел, а ничто не колыхнулось, тишь безветренная. И вон там темно стало, а посередь тьмы запылал огонь, как всевидящее око в храме — во все стороны лучи. И ввысь унеслось. Мы думали, знамение на клад, так клад себя являет. Помолясь, пошли взглянуть, а там она. Такая ж, как сейчас, не в себе. С ней было вроде копыта… вот, в тряпице у меня. Видите, ничего от вас не прячем, монсьер.
Ехали молча. Вдали игривым зеркалом сверкнул ручей. Адриен ждал, что Бертольфин свернет к Молон-а-Ривену, но она правила прямо, низко нагнув голову, так что шейные кольца взгорбились, подобно откинутому назад капюшону.
— Дорого бы я дала, чтоб оказаться рядом с тем свинарем, когда прилетала птица, — наконец вымолвила она скрипуче, сдавленно.
— Сдается мне, Ваше Сиятельство, — осторожно заметил Адриен, — что на такую дичь простые стрелы не годятся. Надобно освященные. И нелишне иметь при себе крест с частицей святых мощей.
— Не стрелы, — метнулся к нему потускневший взгляд Бертольфин, — а силок нужен. Или капкан. Эту добычу я хочу взять живьем. Ты-то как думаешь, Адриен?
Вопрос прозвучал почти жалобно и вызвал в Адриене сострадание. Чувствовалось, что Альберте стало одиноко, как нередко с ней бывало. Есть у нее родичи, есть вассалы, есть замок, слуги и служанки, но со своим невзгодьем она всегда оказывается одна, и некому разделить ту беду, что родилась с ней в один день. По крайности, Адриену это было не по силам.
— Пусть оно минует, Ваше Сиятельство, — искренне ответил он. — Оно всегда минует, стоит немного выждать. Ни в какой рукописи не сказано, что это наваждение надолго. Лучше предаться развлечениям, развеять печаль. Прикажите устроить охоту и сами увидите, насколько веселей вам станет.
Бертольфин обожала охоту со скачкой, с погоней за зверем. Адриен знал, что присоветовать хозяйке, чем отвлечь. Сокровенная, спрятанная в своих землях от досужих любопытных глаз, она ликовала открытой душой в неженских удалых потехах, позволявших вольно двигаться и играть своей силой. Ей ничего не стоило прыгнуть с седла на спину зверя, сбить его с ног своей тяжестью и разорвать челюстями жилы на шее. Она жадно пила горячую кровь, всеми руками сжимая бьющуюся жертву.
Других утех, пристойных благородным людям, она тоже не чуждалась. Трижды в год созывала вассалов в Лансхольм и давала им пир, устраивала празднество с турниром, с музыкантами и плясунами; сама, впрочем, к гостям не выходила, а смотрела на гульбу украдкой и тех, кто отличился, щедро одаривала. Никто не покидал Лансхольм без подарка. Немудрено, что Бертольфин любили, и ее вассалы готовы были окоротить любого, кто плохо о ней молвит.
— Я дочь герцога, — повторяла она, подчас даже настойчиво, как бы убеждая в том и себя, и слушающих, — мне надлежит дарить и награждать, дабы высоко стояла слава моего рода.
Сказывают, сам Бертольф, когда ему передавали эти речи, радостно улыбался и замечал приближенным: «Вот какова сила нашей крови. Она себя оказывает, невзирая ни на что». При вестях из Лансхольма герцог забывал, какие трудности он претерпел, женясь повторно.
Сколько ни скрывай, не скроешь, что за дочь родила Эрменгарда Безумная. Благо, удалось отговориться кознями злых духов, коим лестно извредить потомство знатного рода, чьи бранные деяния и семейные дела равно у всех на устах. И все же Герда Баллерская, вторая супруга Бертольфа, в дрожь тряслась, затяжелев; при ней неотлучно три монаха читали на изгнание бесов. Боялась даже взглянуть на ребенка, и только узнав, что сын без изъяна, разрыдалась с облегчением, взахлеб благодаря Матерь Божию.
— Пиши, — после долгого молчания заговорил граф Фредегар, перестав грызть ноготь. — Пиши: «Ваша Светлость, мой государь Бертольф! Супруга Ваша Эрменгарда минувшей ночью благополучно разрешилась от бремени…»
Боже всемогущий, что диктовать дальше? Фредегар вспомнил тельце, извивающееся в руках повитухи. Плоская голова, тараща глазки, с крысиным писком разевает гребни челюстей. И эти ножки… ручки… лапки… столько не бывает! Будто рак в садке шевелится. Кольчатое брюшко, отделенное перетяжкой от выпуклого тулова. Голова тянется из шейных обручей, вертится… Фредегара замутило.
«…ребенком, коего опытная повитуха опознала женским полом. Не скрою от Вас, государь, что ребенок сей мало схож с человечьим…»
Роды были тяжелыми, а повитухе казалось, что она видит дурной сон. Послед выглядел так непривычно, что она сочла его вторым, меньшим плодом, но быстро опомнилась. Продолговатое детское место было живым — оно само медленно втягивало толстые пуповины и съеживалось, твердело, будто смерзалось, выжимая из себя сукровицу, и под лоснящимся его покровом кишело желтое и черное. Она велела сжечь послед. Помощница божилась после, что оно кричало в огне и спеклось в костяной ком.
К изможденной Эрменгарде на время возвратился разум. Отдышавшись, она едва слышно попросила показать ей дитя, но, увидев, заголосила, сжав голову руками: «Отпустите! Я не хочу! Оставьте меня!»
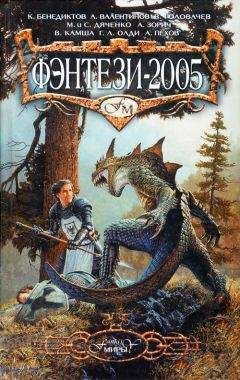


![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)

