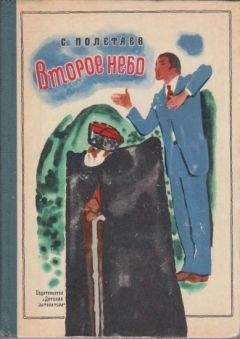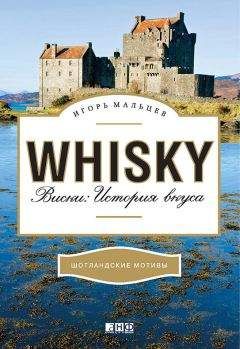Я подошел к стене, но не смог выдернуть свое оружие – оно просто выскальзывало из ослабевших пальцев. Все вокруг заволокло туманной пеленой… Лиса влекла меня куда‑то за собой. Мы бежали и бежали. Каких‑то сто метров показались мне бесконечными. Может, из‑за тумана поменялось восприятие: ведь в нем вещи кажутся куда более отдаленными, нежели на самом деле. Несколько тварей погибли у нас под ногами, нескольких зарубила моя новая странная знакомая невесть откуда возникшим в ее руках мачете. Еще одну или двух я раздавил на бегу…
Вдруг я заметил и ощутил рукоять уже знакомого мне лисьего клинка, торчащую из моей груди чуть пониже плеча… Я понял: я умираю, я убит… Я не мог осознать происходящее, все мое существо протестовало: я не хочу сейчас, это неправда, это не со мной!
Я видел нож, но мозг мой не мог поверить, не хотел и не желал осознавать, что этот нож во мне, мозг не видел ножа, и нож перестал существовать, холод стали исчез – он просто растекся и охватил все мое тело. В том, что происходило, было столько реальности, и в то же время все было нереальным.
Я осмотрелся. Мир вокруг моргнул.
Вокруг пылал старый, до боли знакомый и родной город. Разрушенные остовы зданий, груды коричневого кирпича, столбы черного дыма сливаются в низкие клубящиеся тучи на свинцово–сером небосводе, с которого падают объятые пламенем самолеты, бьют молнии и неистово хлещет ледяной дождь…
Странно… Как это странно – умирать… Как безумно интересно… Как прекрасно…
Когда вокруг стало светло и яркое солнце начало ощупывать своими лаковыми лучами мое израненное тело?… Не знаю. Не скажу точно. Уж как‑то очень сильно я устал, сами собой закрылись глаза. Не заметил и не ощутил чьих‑то бережных рук, аккуратно подхвативших мое осевшее и уже безвольное тело… А были ли эти руки? Мне просто вдруг стало уютно и хорошо. Я давно превратился в большого зверя с пепельной косматой гривой и, мурлыча, купался в волнах. Таких до боли знакомых и давно забытых…
Я открыл глаза и попытался встать, но не смог: я лишь почувствовал головокружение и боль. Тяжесть в теле и голове не помешали мне ощутить, хотя и смутно, что‑то легкое и едва уловимое, знакомое и давно забытое. Мысли путались, а если и прорывались сквозь безумный хоровод, оседали где‑то глубоко, на самом дне подсознания.
Ну что ж, не получается встать, так может, получится хотя бы осмотреться? Но и тут я потерпел неудачу. Полумрак создавал странную волшебную обстановку, причудливым образом меняя очертания предметов, дразня воображение. Застыв, я наблюдал за сказочным вальсом замысловатых теней, среди которых вдруг рассмотрел серый квадрат в стене: он излучал слабый неровный свет и оттого немного выделялся на общем фоне. Свет привлекал внимание, завораживал. Слабый холодок мягко пробежал по спине, ласково коснулся рук.
Нижняя треть этой живой картины была залита черной краской, ниспадавшей от ночных туч, лишь справа виднелись две тонюсенькие полоски – одна, едва различимая, была слабо–оранжевой, другая – лилового оттенка – расположилась немного выше и растянулась чуть больше. Ближе к середине изображение превращалось в темно–синий, словно бархатный, океан, на поверхности которого бушевала серо–коричневая пена. Верхняя треть полотна отличалась от нижней лишь отсутствием полос.
Небо по ту сторону рамы казалось живым, оно постоянно менялось, словно играя с неуловимым ветром. В этом царстве гармонии слышались звуки знакомых мелодий, казалось, в какой‑то миг я даже различил Моцарта. Но вдруг океан откатился вниз, играя волнами розово–голубых оттенков, а две полоски разрослись и окрасили тучи со стороны звезд оранжевой краской. Волны не поспевали друг за другом, рвались и исчезали.
Суетные мысли растворились в дивной красоте: я давно заметил, что в любом своем проявлении красота заставляет избавляться от всего мирского, когда видишь её – мысли уходят.
Волны из свинцовых туч превратились в рябь серо–фиолетовых облаков, добавились голубые и розовые оттенки. Полосы так и не прорвались на поверхность. Их цвет медленно сменился на ярко–багровый, превратив черный океан в необычайно огромное алое зарево. Затем облака превратились в огненные крылья, подобные крыльям феникса или жар–птицы…
Зарево разрасталось вширь, пока не заняло собой весь горизонт. Облака сверху стали почти коричневыми, а палитра красок – более насыщенной, фиолетовый смешался с лиловым. Зрелище настолько притягивало и завораживало, заставляя забыть обо всем, что я не сразу заметил огромного черного кота, свернувшегося в ногах. Кот прикрывал лапой нос и храпел.
«Вот те раз! – подумал Штирлиц», – пронеслась в моей голове фраза из старого советского анекдота.
— Ты‑то здесь откуда взялся? – желая убедиться в реальности кота, я попытался его отодвинуть ногой. Из этого ничего не вышло, так как кот был настоящий и весьма тяжелый.
Пока я рассматривал и пинал кота, заря взорвалась огромным оранжевым диском солнца; за считанные доли секунды краски вспыхнули и исчезли, а комната заполнилась дивным золотым светом. Пока я осматривался, кот недовольно перевернулся, вытянулся и уверенно куснул меня за руку – нечего, мол, меня, царя, в такую рань будить. От неожиданности я даже вздрогнул.
Все казалась до боли знакомым, с чем сознание никак не желало примириться, – так нередко бывает, когда ты, вроде бы, уже проснулся, но все еще спишь. Как в той небезызвестной поговорке: «поднять – подняли, а разбудить забыли». Так и сейчас: я уже успел встретить рассвет, а на деле оказалось, что это ровным счетом ничего не значило. Да! Безусловно! Пора просыпаться – кто много спит, тот мало живет.
Я сел, положил на нагретое своим телом место котяру, что‑то недовольно проворчавшего сквозь сон, накрыл его одеялом, оделся и с наслаждением – до хруста в суставах – потянулся.
— Фто зэ так фсе болит‑то? – я вопросительно посмотрел на кота, но тот в ответ только мурлыкнул что‑то вроде «отстань» и снова зарылся под подушку, оставив снаружи лишь огромный пушистый хвост.
— Как ф тобой пофле этого нофмально фазговафивать? – я обернулся на шаги.
Сказать, что я вздрогнул или подпрыгнул от неожиданности – ровным счетом не сказать ничего: меня передернуло, лицо исказила гримаса, я инстинктивно попятился. Передо мной собственной персоной, живой и невредимый, очень довольный стоял Миша.
— Наконец ты очнулся! – улыбка от уха до уха, блеск и радость в глазах говорили об искренности его слов.
— Гёбанные флисняки! Ты фэ умеф! – я все еще пятился.
— Это что‑то новенькое! Ты сам чуть коньки не двинул! Трое суток в бреду, поту и температуре! Вон Танька из‑за тебя не спала сколько! – Мих как‑то странно вглядывался в меня.
— Она зэ с ума софла и у деда офталась! – видимо, я был очень бледен, а глаза округлились до невероятных размеров, поскольку Михаил сам сделал шаг назад.
— Ты точно еще бредишь! Ты хоть помнишь драку? Помнишь колонку? Уродов тех, прут? А как щеку тебе зашивали? – Миша вопросительно глянул на меня. И довольно громко добавил, передразнивая: – А? ФЫПИЛЯВЫЙ?
Будто во сне, я медленно поднял руку и коснулся кончиками пальцев своей щеки. Щека была опухшей, при нажатии немного саднила, отчетливо прощупывались швы. Я пошатнулся, оперся рукой о стену.
Михаил подошел, положил мне руку на плечо и спокойно сказал: «А знаешь, пойдем‑ка чайку выпьем. Я вчера банку варенья откопал». И, улыбнувшись, заговорщицки глянув по сторонам, тихо добавил: «Малинового».
— Ну… Раз малинового… – медленно поворачивая голову, я размял шею, в которой что‑то хрустнуло. – Ну… Раз малинового, тогда побежали!
Мы неспешно спустились вниз, при этом я чуть не свалился с лестницы – ноги не слишком слушались. Я открыл дверь, и меня ослепило яркое солнце.
— Андрюха! – Татьяна бросилась мне на шею и зарыдала. Я едва удержался на ногах, благо, Мих поддержал, не дал упасть обоим.
— Полно, Тань, – я с трудом освободился из цепких девичьих объятий. – Миха тут что‑то про варенье говорил…
Я не мог сдержать улыбки. Мне вдруг стало так хорошо и спокойно…
— А хотите, я вам расскажу очень странный сон? – я посмотрел на ребят. – Ну, чего уставились? Налетайте, все вкусное съедят!
Так, за кружечкой липового чая да за банкой малинового варенья начался мой длинный, а, может, и не такой уж длинный, но весьма занимательный рассказ…
Унылое серое небо роняет на осиротевшую землю тяжелые слезы – они льются, не прекращаясь ни на минуту. Мы стоим с Михаилом, прислонившись плечами к стволу искалеченной ели – ствол теплый и от этого кажется живым. Через израненные, но все еще пушистые лапы дождю сложно добраться до нас.
— Неспокойно… – я поежился и глубже втянул шею, поправив стоящий ворот плаща.