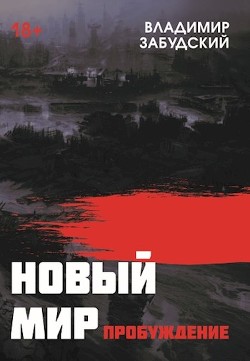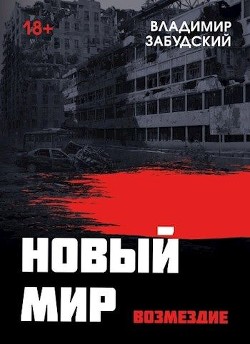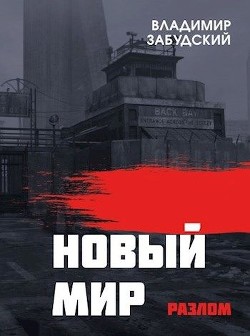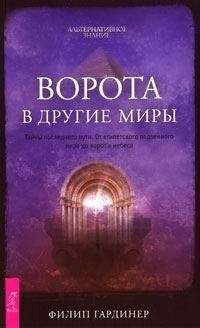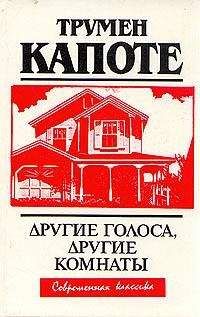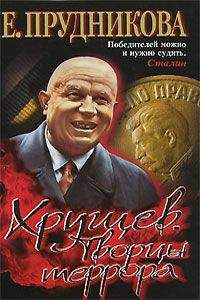Я вновь вздохнул.
— Спасибо, Клаудия, — наконец ответил я, поднимая на нее взгляд: — Я редко говорю это, но твоя поддержка очень многое для меня значит. Мне будет не хватать ее.
— Димитрис. Если бы даже я не любила тебя, как родного сына или младшего брата, я все равно никогда не отказала бы тебе в помощи в память о замечательнейшем человеке, которого я когда-либо знала. И это никогда не изменится, — сделав шаг мне навстречу и тепло сжав мне руку, произнесла она.
Я не успел ничего ответить, как она мягко заключила меня в объятия. Несколько секунд мы стояли в тишине, обнявшись. Мне не было неловко — лишь тепло и спокойно. И никакие слова в этот момент не требовались.
— Береги себя, мальчик мой, — шепнула она мне на ухо.
— Ты тоже.
Крепко и тепло сжав мне на прощание плечо, она плавно скрылась в темноте.
Я остался стоять в одиночестве, в глубокой задумчивости и тоске.
§ 102
Путь назад в город был преисполнен размышлениями. Несколько раз я настолько сильно в них погрузился, что едва не угодил на своем скутере в аварийные ситуации. Но даже громкие сигналы автомобилей не могли заставить меня, обычно осторожного на дороге, прийти в норму. Серые тучи, которые заволокли небо, были отражением того, что происходило в моей душе.
Клаудия не пыталась давить на меня в отношении Лауры. Было заметно, как она рада появлению у меня хоть каких-то чувств, как бережно она отнеслась к ним и как сильно не хотела их спугнуть. Но именно из-за этого у меня не было причин ставить под вопрос искренность ее предостережений. И звучали они рационально и весьма убедительно. Романтическая пелена, застилающая мое сознание, рассеялась, и там воцарился нарастающий скепсис. В какой-то момент я даже начал злобно посмеиваться над собой, поражаясь своей легковерности и наивности.
— И что ты себе понапридумывал? — бормотал я себе под нос рассерженно. — Тоже мне, нашел родственную душу! Идиот!
Налетевший скепсис был отчаянной попыткой разума задавить зародившиеся во мне чувства. Но этого так и не произошло. В моей памяти всплыл наш с Лаурой разговор прошлым вечером. Каждое ее слово, каждое движение были все еще свежи. И так же свежи были чувства, которые я тогда испытал. Присмотревшись к себе глубже, я вынужден был признаться, что все еще верю в ее искренность. И вовсе не хочу себя в этом разубеждать.
— Да какая вообще разница? — проворчал я раздосадовано. — Какая разница, хорошая она или плохая! Есть сотни причин, почему ничего не может быть. Почему я вообще об этом думаю?
С размышлений о моих чувствах к Лауре сознание переползло на мысли о еще более тонких материях. Эти мысли разбередил во мне еще Питер Коллинз во время последней нашей с ним беседы. И с момента смерти Питера они больше не отступали. Сегодняшний день стал апофеозом этих терзаний. Как я не старался скрыться от окружающей действительности в своем панцире и сосредоточиться на рутине, вся Вселенная, кажется, толкала меня к самоопределению. Каждый встречный, начиная от Рины Кейдж и заканчивая Лейлой Аль Кадри, волей или неволей ставил передо мной ребром важные вопросы, ответов на которые я тщательно избегал весь тот год, который прошёл после моей выписки из госпиталя. Если отбросить лишние сущности, то вопрос был всего один. И его уже давно озвучил за меня герой известного романа Достоевского, перед тем как зарубить некую старуху топором.
Может быть, когда-то я просто заблуждался — не был до конца уверен, где правда, а где ложь, где добро, а где зло. Но теперь это больше не могло быть для меня оправданием. Я не был дураком, и все прекрасно понимал. Это понимание было со мной в каждом ночном кошмаре. Оно было в угрызениях совести, которые я испытывал, оставаясь наедине со своими мыслями. Оно было со мной в минуты раскаяния, когда я молил Бога, если он есть, простить меня за все, что я натворил.
Все они были правы насчет меня: Питер, Гунвей, Лаура, Джером, Клаудия, Лейла. Я всегда находил аргументы, чтобы возразить им. Но ни в один из этих аргументов, в глубине души, я не верил. Правда была та в том, что я до смерти боялся их: Чхона, Гаррисона, Блэка, Штагера, Ленца. Я склонился перед их властью и могуществом. Смирился с торжеством зла и лжи ради того, чтобы купить себе спокойный остаток жизни. Я убеждал себя и всех вокруг в том, что мною руководят мудрость и здравомыслие. Но на самом деле я был ведом одним лишь страхом. Вот и вся правда обо мне — сыне Владимира и Катерины Войцеховских…
Пребывая в плену у тяжких мыслей, я практически перестал следить за дорогой. Скутер скользил вперед с максимальной скоростью, на которую был способен его электрический двигатель, порядка восьмидесяти миль в час. Мои руки сжали руль так крепко, словно пытались его сломать. И я сам не заметил, как траектория моего движения изменилась и я начал плавно приближаться к правому краю моей полосы, за которым с шальной скоростью проносились мимо груженые фуры.
Из раздумий меня вывел оглушительный, как у теплохода, гудок грузовика. Я опомнился и инстинктивно крутанул руль влево за миг до того, как фура пронеслась меньше чем в футе от меня со скоростью далеко за сотню миль в час.
— … боеб!!! — донесся до меня последний слог ругательства из окна фуры.
— Черт возьми, — прошептал я, сбавляя скорость и злясь на себя: — Вот кретин!
До меня дошло, что только что я чуть не погиб из-за собственной неосторожности. Я определенно не мог вести в таком состоянии. Невдалеке как раз сверкала огнями АЗС. Включив поворот, я перестроился в крайнюю левую и заехал на заправку. Остановившись на парковке, я заглушил мотор, устало вздохнул и положил обе руки на голову, сжав пульсирующие виски.
— Проклятье, — едва не плача от бессилия, молвил я в пустоту.
Выбор, которого я так долго избегал, предстал передо мной с кристальной ясностью: забиться глубоко в нору, задавить свою гордость и терпеть, с каждым днем все глубже погружаясь в отчаяние и теряя уважение с себе; или ввязаться в безнадежную борьбу за правду и справедливость, которая очень скоро приведет меня к гибели.
— Я ведь всего лишь хочу жить, как нормальный человек. Неужели это так много?! — спросил я в сердцах у самого себя.
Если быть честным, то я давно уже знал ответ на свой вопрос. Нельзя было просто абстрагироваться от прошлого и сделать вид, что я здесь не при чем. Слишком многое довлело надо мной. Как бы я не старался, я был не в силах распутать узел из ошибок, боли и вины, в который закрутилась моя жизнь. Этот узел можно было лишь разрубить.
Весь этот год я пытался переродиться. Очиститься от той скверны, которую я чувствовал в себе после Легиона, вернуть уважение к себе, простить себя, примириться с собой. Я искал покой и гармонию в своем смирении и раскаянии, в упорном честном труде, в помощи ближним, в медитации, йоге и айкидо. Всей душой я пытался стать совсем другим человеком. Но это было невозможно. Я был Димитрисом Войцеховским. Моя жизнь и моя личность были цельными. Как бы ни хотелось, их нельзя было поделить на отрезки. Все мои решения, все мои поступки, правильные и неправильные, судьбоносные и мимолетные — навсегда стали моей историей. Ничего нельзя было вычеркнуть. Ничего нельзя было приукрасить или изменить. Гордость и позор, смирение и ярость, вина и искупление, прощения и месть — они всегда будут вместе существовать в моем сердце. Я никогда не смогу убежать от них.
Словно в такт моим мыслям с неба начал плавно моросить дождь. Стянув с головы капюшон, я воздел голову к небесам, позволяя прохладным каплям падать на мое рыхлое измученное лицо. Я позволил себе три раза глубоко вдохнуть, насыщая легкие кислородом, и выдохнуть, выпустив из души скопившийся там комок боли.
— Что же мне делать? — прошептал я, умываясь каплями дождя.
Но ответ так и не приходил.
Какое-то время я следил за тысячами огней автомобильных фар, проносящихся мимо по автостраде, размытых из-за завесы дождя. Даже не знаю, много ли так времени прошло. «Мама в таких случаях любила пить чай», — вдруг вспомнил я. В памяти всплыли, словно живые, воспоминания из давно забытого прошлого — мы с мамой сидим за столиком в нашей уютной кухне и маленькими глоточками пьем крепкий черный чай, не переставая разговаривать и поглядывая за окно, которое мороз разрисовал причудливыми узорами.