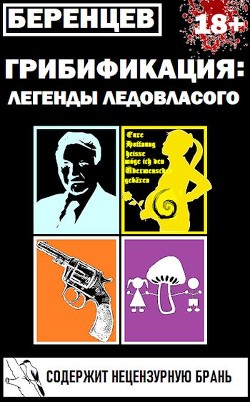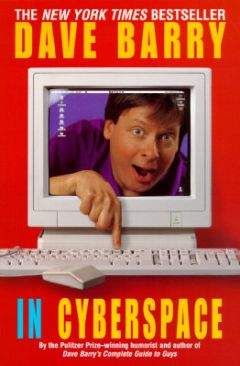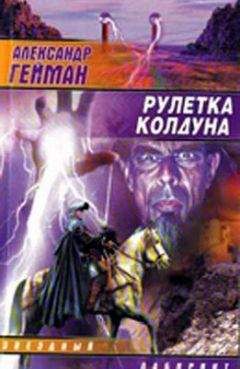Все дети и женщины конечно к этому времени уже сдохнут, и таким образом мы вернем человечество в первозданное состояние, мы возродим его и вновь размножимся почкованием по всей земле, свободной от колдунов-ученых.
Герман потянулся к макинтошу, но Люба остановила его, она хотела еще посмотреть на сына Германа.
— Она такая миленькая, я уверена, что из этой почки вылупится исключительно сильный и умный сын, — серьезно заявила Люба.
— Хм... А как он родится, уже с бородой или без бороды? — пробулькал Блинкрошев.
— Конечно же с бородой. Существо без бороды не может называться мужчиной, — ответил Герман, — Не обижайся, Блинкрошев.
— Без проблем, Герман.
Герман наконец надел свой макинтош и заявил:
— Я обещал вам, что с этого дня у меня не будет никаких секретов от вас. Я всегда держу свое слово, и вы в этом сейчас убедитесь. Основную истину я вам уже раскрыл. Теперь пришло время послушать колдунов. Давайте сюда Плазмидову.
Люба и Блинкрошев быстро и обеспокоенно переглянулись. Хрулеев понял, что что-то пошло не так, вероятно, выступление Плазмидовой сценарием сегодняшнего спектакля не предусматривалось.
— Хм... Послушай, Герман, стоит ли нам давать слово колдунам-ученым? Ведь их гнилые речи могут развратить... — забулькал было Блинкрошев, но Герман не дал ему договорить:
— Плазмидову на трибуну. Быстрее. Я приказываю.
Саму старуху Хрулеев не видел, зато ее уродливый посох он заметил сразу же, как пришел на площадь. Плазмидова стояла в первых рядах возле самой трибуны, там, где располагались обладатели высоких градусов — со второго по шестой. Посох Плазмидовой, оканчивавшийся кривым витиеватым корневищем и вдвое превосходивший хозяйку в высоте, возвышался над головами собравшихся на площади, как одинокий саксаул над степными травами. Сейчас Хрулеев, стоявший позади всех, видел, что посох задрожал и медленно заковылял к трибуне.
— Помогите мне. Нет, дурак, я не могу подняться по этой лесенке, мне уже девяносто восемь лет, у меня ноги не гнутся. Помогите, вы же слышали, что сказал Герман, — раздался у подножия железной трибуны трещащий, но удивительно громкий и четкий голос Плазмидовой.
Люба еще несколько секунд размышляла, а потом кивнула охранникам, и они забросили на трибуну старуху с ее уродливой палкой.
Посох Плазмидовой застучал по железным листам, из которых была сварена трибуна. Трясясь все телом, старуха медленно подошла к Герману. Хрулеев подумал, что Плазмидова идеально иллюстрирует тезис Германа о колдунах-ученых. Она как будто постарела еще больше с тех пор, как несколько дней назад оперировала Хрулеева. Плазмидова сейчас была похожа даже не на ведьму, а на труп ведьмы, оживленный темной некромантией. На старухе был все тот же запачканный застарелыми пятнами крови халат, ее шея была замотана многочисленными засаленными шерстяными шарфами.
— Минутку, пожалуйста... — попросил Герман, — Прежде чем вы, Плазмидова, скажете последнюю в своей жизни речь, нам необходимо кое-что проверить.
Герман задрал вверх голову и, усилив собственный голос Утренним Дыханием Президента, произнес, обращаясь к самой высокой каменной башне на площади:
— Молотилка, милая, готова ли ты карать? Голодна ли ты? Готова ли ты принять в свое чрево последнего в мире колдуна-ученого, чтобы мир снова стал чист и светел, как на заре времен?
Все собравшиеся на площади теперь вслед за Германом смотрели на вершину каменной прямоугольной башни Молотилки, туда, где на высоком флагштоке развевался флаг с портретом Германа и надписью ДЕТИ — ЗЛО.
На нориях, соединявших Молотилку с силосным баком, где раньше хранилось необработанное зерно, висела клетка с пленными детьми. Теперь в этом баке, как знал Хрулеев, было хранилище квашеной капусты, никакого зерна у Германа не было, хлеба на элеваторе не ели, а Молотилку использовали исключительно для молотьбы людей.
Нории с другой стороны Молотилки, соединявшие раньше ее с силосным баком для очищенного зерна, совсем проржавели и давно, еще до Германа, развалились. В этом втором баке вместо очищенного зерна теперь жил сам Герман. Между башней Молотилки и проржавевшим обиталищем Германа на земле все еще лежали сваленные в кучу куски норий и вагонетки, в некоторых из них ржавчина проела дыры.
За те несколько дней, что он провел здесь, Хрулеев уже успел узнать, что элеватор, где располагался лагерь германцев, был заброшен еще в конце восьмидесятых. В 1992 мэр Оредежа Автогенович, подмявший под себя все производство хлеба в районе, построил совместно со шведской компанией новый элеватор где-то под Лугой.
Никто из тех, с кем говорил здесь Хрулеев, не знал, почему Герман решил выбрать в качестве места для лагеря именно этот заброшенный старый элеватор, возможно Германа уже тогда тянуло к Молотилке.
Впрочем, рассказать о первых днях основания лагеря сейчас могли немногие. Почти все первые обитатели лагеря, которые вместе с Германом пришли сюда в мае, были уже давно скормлены Молотилке. Из старожилов, видевших основание лагеря на элеваторе, в живых оставались только сам Герман, Люба, десяток ее головорезов, Блинкрошев и Пушкин.
Именно рожа Пушкина появилась сейчас на технической площадке на вершине башни Молотилки. Пушкин был вторым градусом, и его высокое звание в иерархии элеватора было вполне оправдано — Пушкин заведовал Молотилкой. Он работал на этом элеваторе еще в семидесятых и был единственным в лагере, кто вообще знал, как функционируют элеваторы и молотилки. Хрулеев ни разу с ним раньше не встречался, но многое о нем слышал.
Пушкин жил на вершине Молотилки уже полгода и никогда не спускался вниз. Еду и все необходимое для поддержания в рабочем состоянии молотильной башни ему приносили наверх по проржавевшей лестнице, которая опоясывала строение Молотилки. По этой же лестнице наверх доставляли приговоренных к молотьбе.
Пушкин никогда не мылся, и по слухам справлял естественные надобности прямо в Молотилку. Никто не знал, как по-настоящему зовут Пушкина, но данная ему погремуха была вполне подходящей. Пушкин не был ни поэтом, ни негром, зато обладал выдающимися седыми бакенбардами, они и послужили причиной прозвища.
Даже отсюда с земли Хрулеев мог рассмотреть, что бакенбарды Пушкина от отсутствия гигиены и постоянного копания в перепачканной кровью Молотилке приобрели красновато-бурый оттенок и напоминали цветную плесень, наросшую на уродливом лице Пушкина. Еще было заметно, что в грязных бакенбардах застряли куски зерновой шелухи, накопившейся за долгие десятилетия в Молотилке, которую обслуживал Пушкин.
Пушкин поднял вверх руку с оттопыренным большим пальцем, показывая таким образом Герману, что все готово.
— Электричества Молотилке! — потребовал Герман.
Стоявший в первом ряду совсем рядом с трибуной электрик с логотипом Оредежских электрических сетей имени Мегавольта на засаленной спецовке бегом бросился к дизель-генераторной установке. Через минуту располагавшийся на краю площади генератор загудел.
— Запускай! — приказал Герман.
Молотилка оглушительно завыла и затрещала.
Хрулееву захотелось закрыть руками уши, но делать этого было нельзя, Герман мог счесть это неуважением к Карающей Молотилке. Проклятый вой Молотилки Хрулеев слышал каждое утро, но так и не привык к нему. По приказу Германа Молотилка вхолостую запускалась ежедневно в шесть утра, чтобы разбудить обитателей лагеря на работу и напомнить всем о наказании, которое последует для тех, кто будет работать спустя рукава или нарушать правила.
Сейчас Молотилка работала несколько минут подряд, наконец она натрещалась и, захрипев напоследок как огромный раненый зверь, заткнулась. Герман остался доволен:
— Очень хорошо. Вот возьмите усилитель звука, Плазмидова , - он протянул старухе Утреннее Дыхание Президента, — И расскажите нам все, что знаете. Обо всем — о Грибе, о детях, о нашем будущем. Сегодня, в последний день вашей жизни, можете говорить совершенно свободно. Я разрешаю это, поскольку я милосерден. Кроме того, я обещал, что не буду больше ничего скрывать, а я всегда держу свое слово.