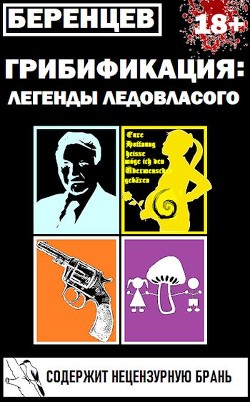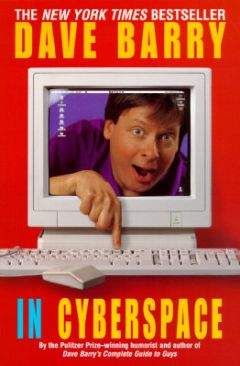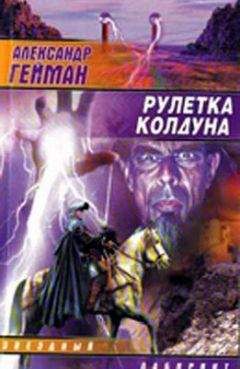— Делайте. Счет идет на минуты. Нам нужен состав 202. Я позвоню в компетентные органы.
Профессор быстро вышел из палаты 389, в коридоре он перешел на бег. На верхних этажах не было телефонов, и Топтыгину, чтобы позвонить, нужно было покинуть «грязную» зону. Процедура очистки и снятия костюма биозащиты показалась ему невыносимо, невозможно долгой.
Наконец профессор ворвался в располагавшийся на первом этаже и отданный сейчас в полное распоряжение Топтыгина кабинет главврача и судорожно схватился за телефон.
Гудки, никто не берет трубку.
Сердце у профессора бешено стучало, отдаваясь в висках. Топтыгин бросил трубку, набрал номер еще раз, и только тогда на том конце провода наконец ответили:
— Алло.
— Зоечка, Топтыгин. Квасодуба, срочно.
— Извините, профессор, его нет...
— Давайте того, кто есть.
— Сейчас никого нет, профессор...
— А где Квасодуб?
— Он не может, сейчас...
— Кто там, Зоя? — неожиданно вмешался в разговор незнакомый Топтыгину стальной голос, — Профессор? Да, давайте. Алло. Как там дела, профессор?
— Плохи дела. Мальчик подвергся воздействию. Первая стадия. Мне срочно необходимо девяносто, а лучше сто флаконов состава 202. Срочно, счет идет на минуты.
— Как же он подвергся воздействию, профессор? Вы ведь должны были полностью изолировать больницу. Или это произошло не в больнице?
— В больнице, я не справился, я допустил ошибку. Но это все сейчас не важно. Послушайте, мальчика еще можно спасти...
— Стоп. Как это не важно, профессор? Больница должна быть полностью изолирована.
— Да, да, я уже отдал все необходимые распоряжения. Послушайте, вы не о том говорите, мне нужен состав 202, сто флаконов...
— Я вас услышал, профессор.
— Вы пришлете? Спасибо! Я выезжаю на аэродром, буду через двадцать минут...
— Не спешите. Состава нет, — произнес стальной голос в трубке, на несколько секунд повисло молчание.
— С кем я говорю? — наконец осторожно спросил Топтыгин.
— Полковник КГБ Бидонов.
— А... Я бы хотел поговорить с полковником Квасодубом. Где он?
— Квасодуб снят за преступную халатность, два часа назад. Он несет прямую ответственность за инцидент.
— Но все равно... Как мне с ним связаться?
— Боюсь, что там, где сейчас находится Квасодуб, нет телефонов, профессор.
— Арестован?
— Застрелился. Не выдержал позора.
На несколько секунд вновь повисло молчание. Топтыгин вдруг почувствовал себя очень уставшим, слабым, старым и маленьким.
— Послушайте, полковник, мне нужно девяносто флаконов состава 202. В течение часа. Иначе мальчик умрет.
— Я уже ответил вам, профессор. Состава нет.
— Но... Я могу поговорить с кем-нибудь из руководства?
— Уже говорите. Я и есть руководство. Я отвечаю за ликвидацию последствий инцидента.
— Так дайте состав! Пожалуйста.
— Ваше психологическое состояние вызывает у меня опасения, профессор. Я же сообщил вам, что состава не будет.
— Я... Я буду звонить генералу Внутриеву...
— Звоните. Только он охотится в глухих карельских лесах. Вернется не раньше, чем через три дня.
— Я буду звонить Председателю КГБ.
— Зачем мелочиться, профессор? Звоните сразу Генеральному секретарю. Только это ничего не изменит.
— Но... Послушайте... Послушайте, у вас же целые ангары состава 202. Я сам их видел, своими глазами. Я лично участвовал в его производстве.
— Может быть, профессор. А может и нет. Это секретная информация. В любом случае, состав 202 представляет собой вещество, имеющее важное значение для обороноспособности страны. Он не выдается гражданским лицам, никогда. Инструкция есть инструкция.
— Но ведь полковник Квасодуб мне дал его, дал!
— Во-первых, он дал вам состав для излечения рядового ВВС. Это военное применение. Во-вторых, нет больше полковника Квасодуба.
— Постойте... Стойте. То есть рядового спасать нужно, а ребенка — нет? Вы сознаете, что сейчас говорите?
— Да.
— Но... Хорошо. Ладно. У меня здесь умирает рота солдат из химических войск. Мне нужен состав для них.
— Вы не слышите меня, профессор. Полковника Квасодуба больше нет. Я — не он. Я трактую инструкцию иначе. Я полагаю, что военное применение — это применение в условиях военного времени. На войне.
— А у нас здесь что по-вашему? Тут целая больница людей, они кричат от боли, зовут родных, женщины, дети, и я ничем не могу им помочь... Двадцать тысяч человек погибло... Я не сплю уже сутки... Послушайте... Приезжайте, посмотрите на это сами! Скажите в глаза этому мальчику, что он умрет, потому что вы так решили! Хорошо командовать, сидя в теплом кабинете...
— Лирика, профессор. Нервы и лирика. Мне не интересно.
— Так что мне делать? Мне-то что делать? Мне поехать в консульство США и дать в рожу американскому послу? Чтобы началась третья мировая война, и вы соизволили выдать мне мой состав, который я же и изобрел?
— Всего доброго, профессор. Я позвоню позже, когда вы успокоитесь.
Обладатель стального голоса повесил трубку. В дверях кабинета стояла женщина-врач, прилетевшая сегодня ночью вместе с Топтыгиным:
— Профессор, мы отмыли мальчика, как могли. Он изолирован в операционной. Мао мы передали военным. Я проверила мальчика спектровиком, обширное заражение. Он жалуется на боль в глазах, началось кровотечение из носа.
Топтыгин молчал.
— Профессор? Что нам делать дальше?
— Дайте ему морфия, заранее, пока боли еще терпимы, — слабым голосом ответил Топтыгин, а потом заорал:
— И себе вколите тоже, Катенька! И мне! Давайте все зальемся морфием и сдохнем, блядь!
Телефон полетел в стену и с громким треском развалился на куски.
Хрулеев: Последний полет командира
11 октября 1996 года
Балтикштадтская губерния
Теперь они расположились за вывороченным корневищем упавшей сосны. Отсюда уже можно было увидеть конец леса, за сосняком раскинулось желанное поле, полное собирающих урожай ордынцев и вкусной картошки. Но разглядеть, что происходит на поле, отсюда было невозможно.
Все это было очень странным и напрягало Хрулеева. Он не понимал, зачем ордынцы засадили картошкой именно это поле, окруженное с трех сторон лесом. В Оредежском районе было огромное количество гораздо более безопасных с тактической точки зрения полей, к которым не может незаметно подобраться враг. Но ордынцы почему-то выбрали именно это.
Хрулеев полагал, что здесь может быть только три объяснения. Во-первых, возможно именно на этом поле по каким-то причинам растет исключительно вкусная картошка. Во-вторых, руководство ордынцев могло быть такими же гениями тактики и стратегии, как Герман. Третье объяснение было самым паршивым и состояло в том, что возможно Айрат слил Герману дезинформацию, и все они сейчас идут прямо в ловушку.
Но эти свои соображения Хрулеев держал при себе, он был уверен, что Люба не станет его слушать, и в любом случае будет строго следовать плану Германа.
— На, смотри, — Люба сунула Хрулееву армейский бинокль.
Хрулеев осторожно высунулся из-за соснового корня и навел бинокль на противника, которого он видел и так, без всяких увеличительных приборов.
На полянке на холме расположились ордынские часовые. В отличие от ордынца, которого только что убила Люба, эти были на расслабоне. Они жарили на костре грибы, Хрулееву даже казалось, что он чувствует аромат пищи, исходящий от насаженных на самодельные палочки-шампуры мелких грибов типа лисичек. Кони ордынцев были привязаны к сосне, рядом лежали на земле их ружья и автоматы.
Ордынцев было четверо — двое молодых парней, девушка и старый дед. Один из парней переворачивал над огнем шампуры с грибами, второй болтал с девушкой, дед курил в стороне от остальных и вглядывался в лес. Хрулеев подумал, что возможно дед курит именно тот «Петр», который был выменян Хрулеевым у ордынцев на эчпочмаки. От этого ему стало не по себе. Как он будет стрелять в ордынцев? Они ведь накормили его, спасли от голодной смерти.