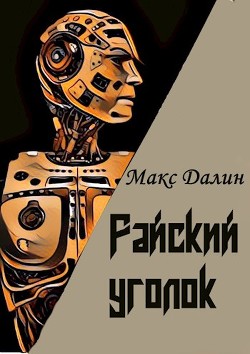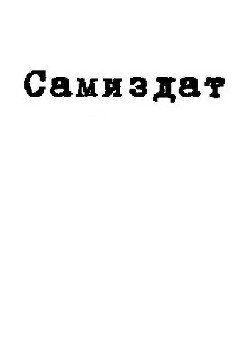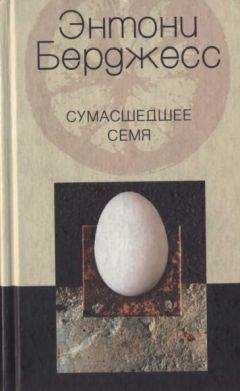— Давайте оставим в покое идеологию, — хмыкнул я. — Не уверен, что идеологию шедми могут обсуждать люди, очень поверхностно знакомые с предметом. Шедми просто вырастят детей в заботе и любви — и не мешайте вы им в этом, ради бога!
— А можно поговорить об этом с шедми? — спросила немка, представитель Евросоюза.
— Пожалуйста, — сказал я. — Почему бы и нет?
— Господин Бэрей, — сказала она, расширив глаза, — вы — коммунист?
Бэрей удивился, но фрау не заметила.
— Госпожа Канторек из Мюнхена, — сказал мой дивный тюленёнок, — я даже не понимаю до конца, какой смысл вы вкладываете в это слово. Разные люди называют «коммунизмом» разные явления.
— Вы уважаете частную собственность? — уточнила немка.
— Я не очень понимаю, как можно уважать собственность, — сказал Бэрей. — Я уважаю разумных существ. А они, по моему разумению, собственностью быть не могут.
В зале начали хихикать.
Немка значительно посмотрела на штатника. Штатник растерялся окончательно.
— Некоторые называют «коммунизмом» братство обитателей всего мира, — продолжал Бэрей. — Равенство перед законом. Творческий труд на общее благо. С этой точки зрения я «коммунист». Но я слышал, как другие люди называли «коммунизмом» насилие группы над всем остальным обществом, жестокое обращение с себе подобными, ещё какие-то непонятные нам вещи… вроде подглядывания за поведением других, чтобы сообщить всем, что эти другие ведут себя неправильно. С этой точки зрения я не «коммунист». И я вас уверяю, люди: никто из нас не станет учить детей жестоко вести себя друг с другом. Это вообще не в наших традициях.
Немка кивала и записывала в планшет. Штатник слушал, напряжённо думал — и вдруг вспомнил:
— Вы ведь не признаёте семью?!
Бэрей удивился ещё больше, но штатник тоже не заметил:
— Это не так, господин Стаут. Мы признаём, что люди живут семьями. Очевидно, это для них естественно. Для нас — нет. И я не могу представить себе, как вы обучили бы детей-шедми жить «семьёй»: к тому возрасту, когда люди вот это… вступают в брак — у нас уже заканчивается репродуктивный период. Мы живём иначе не потому, что мы — плохие люди, господин Стаут, а потому, что мы — совсем не люди. У нас другие тела, другой разум. И мы — очень хорошие родители. Мы сделаем всё, чтобы дети выросли счастливыми — даже после этой войны. У нас ведь ничего не осталось, кроме этих детей; каждый из нас с радостью пожертвует собой ради их счастья. Не надо больше искать отговорки.
Штатник совсем потерял лицо. Ему было тяжело смотреть на Бэрея — и он опустил глаза. Мой тюленёнок работал так, что им гордился бы КомКон: мы убедили большинство. Но тут встрял представитель Федерации:
— На жалость давите! — фыркнул он. — Плевать вы хотели на этих детей! Из-под стражи хотите вырваться, на реванш надеетесь, знаем мы! Поближе к космической технике, чтобы в космос, террор, месть, в общем — кого обмануть хотите?!
Бэрей встал.
— Господин Дементьев из Москвы, — сказал он с тем чудовищным ледяным презрением в тоне, какое шедми не спрятать, когда они сталкиваются с человеческой низостью, — вы не можете обвинять нас во лжи. Мы людей — можем: даже сегодня люди уже пытались жестоко солгать. Обвинять нас у вас нет права.
— Слова! — отмахнулся Дементьев.
— Могут быть — дела, — возразил Бэрей. — Если я умру прямо сейчас, это убедит вас в вашей неправоте? Задыхаться — долго, я был победителем в состязаниях по плаванию подо льдом, могу задержать дыхание на тридцать восемь ваших минут. Но, если хотите, я могу воткнуть авторучку в глаз. Это быстро. Устроит вас? — и взял ручку со стола.
— О, нет! — охнула немка.
Зал замер. Дементьев скрестил руки на груди и уставился на Бэрея, щурясь. Бэрей перехватил ручку, как клинок.
— Это неправильно, — сказала Гэмли. — Люди, вы же видите, что это — неправильно?
Но что именно «неправильно», она, кажется, не могла понять. А я отобрал у Бэрея ручку.
— Тюленёнок, — сказал я, — не дури. Ты забыл: у людей так не принято. Смотри, сейчас госпожа полномочный представитель Европы в обморок упадёт. Сядь, люди поняли, — и обратился к Совету. — Глубокоуважаемые господа, в настоящий момент вы пронаблюдали очередную продуманную провокацию, проведённую политиком Земли в отношении гражданина Шеда.
Заговорили все одновременно, поэтому никого было толком не слышно — но уже через миг Дементьев рявкнул басом:
— Это беспочвенное обвинение!
— Нет, — сказал я. — Вы, Михаил Петрович, знаете, что совершеннолетние граждане Шеда практикуют ритуальное самоубийство в ситуациях, когда необходимо доказать искренность и готовность идти до конца. Вам как представителю администрации данные о поведении шедми в кризисной ситуации на переговорах были представлены ещё задолго до начала войны. Потом они неоднократно подтверждались. То есть — вы знаете, что шедми готов покончить с собой у всех на глазах, если он об этом заговорил. Это древняя традиция народа Шеда.
— Ох, да мало ли… — начал Дементьев, но я его остановил.
— Зная это точно, вы намеренно поставили шедми в ситуацию, когда нравственный закон его мира не оставляет ему выбора. Спрашивается: зачем вы это сделали? Для меня это — не загадка. Могу пояснить и вам, уважаемые господа полномочные представители.
Дементьев хотел сказать ещё что-то, но немка его остановила.
— Объясните мне, господин Майоров! — попросила она, пытаясь отдышаться.
— С удовольствием, фрау, — сказал я галантно. — Сценарий мог развиваться по двум путям, фрау. Первый путь: я остановлю брата Бэрея. Тогда нас обоих обвиняют в том, что мы пытались блефовать, жмём на эмоции и вообще устроили из заседания Совета мелодраматический балаган. Было бы логично, верно?
— Да, — задумчиво сказал штатник. — Это было возможно.
Кажется, он думал: «Я бы так и сделал».
— Второй путь, фрау, — продолжал я, улыбаясь. — Брат Бэрей или сестрёнка Гэмли не прислушиваются ко мне и кончают с собой у вас на глазах. Вы получаете зрелище, непривычное для людей, жестокое и отвратительное, а господин Дементьев приходит в ярость и кричит, что нам очередной раз продемонстрировали неуравновешенность шедми, их натуру фанатиков-камикадзе и то, как дёшево они, в сущности, ценят жизнь, свою и чужую. И всё. У моих ребят нет выхода.
Зал затих.
— А разве это не так? — хмыкнул Дементьев. — И фанатики, и жизнь им — копейка.
— То есть на их месте вы, дорогой Михаил Петрович, оценили бы себя безусловно выше, чем последних детей Земли, верно? — спросил я самым вкрадчивым тоном.
— Это вы — провокатор! — выдал Дементьев в ярости.
— Что вы, глубокоуважаемый! — разулыбался я. — Я — зеркало. И я хочу, чтобы уважаемые присутствующие хорошо себя рассмотрели. Гэмли, скажи, пожалуйста, господам полномочным представителям, сколько детей было у тебя?
— Четверо, — сказала Гэмли глухо.
— Они все находились на Шеде в момент катастрофы?
— Да, — сказала Гэмли, глядя на меня снизу вверх. — Убили всех.
— А теперь, — продолжил я, — хочу напомнить Совету: дети для Шеда — общая святыня. Их абсолют. У нас, людей, никаких аналогов нет — ни одной святыни, общей для всего вида; мы этого понять не можем. Но вы сделайте милость, глубокоуважаемые господа, попытайтесь: вот у нас на Эльбе почти пятьсот ребят, молодых. Они чувствуют себя последними — вдумайтесь, господа! — последними представителями своего вида. Потому что больше детей не будет. Невозможно. Бабы ещё не нарожают. Они ещё живы, но ничем, ничем не могут изменить положение. Расскажи о работах биологов, Гэмли.
— Эксперименты по клонированию, — сказала Гэмли, теперь взглянув-таки в зал. — Мы проводили эксперименты по клонированию. Пытались вырастить эмбрион вне организма матери. Пытались стимулировать инъекциями гормонов наших самых юных женщин и пересаживать искусственно созданные эмбрионы в их тела… мы создали банк генетического материала… Возможно, эта программа могла бы сработать… дома. У нас дома, на Шеде. Если бы у нас были лаборатории, средства, промышленные мощности — но вы, люди, всё это разрушили. У нас ничего нет. У нас нет возможностей.