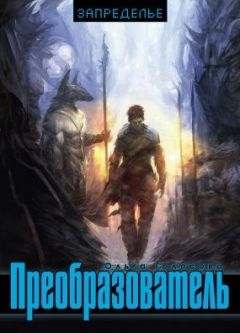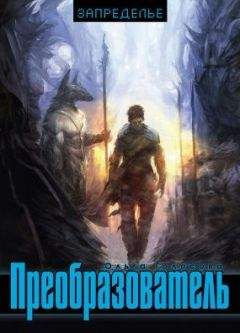— Ладно, я понял.
— Тогда, — Эдик бросил взгляд на поблескивающий бриллиантами циферблат, — нам пора.
Глава 32
Кловин. Последняя
Летнее полнолуние самое страшное. Тоска сосет и сосет из сердца волю к жизни, все, о чем мечталось и забылось, возвращается, а мокрые от пота простыни липнут к телу. Такие ночи можно пережить вдвоем, но даже между влюбленными лунный свет возводит невидимую преграду, проникая в тайники души, куда нельзя заглядывать безнаказанно.
Билэт спал, отвернувшись к стене. Кловин лежала на спине и смотрела в распахнутое окно. Она перевела взгляд на мужчину, разделившего с ней постель. Спина спящего мерно подымалась и опадала в такт дыханию. В лунном сиянии серебрились едва заметные шрамы, покрывающие тело, поджарое, как у молодого волка. Билэт казался игрой лунного света, сладкой мечтой, вернувшись от которой, ощущаешь ядовитую горечь пустоты и одиночества, и она из последних сил цеплялась за эту мечту и твердила себе, что ради любви можно вынести все. Чья-то тень закрыла луну, крикнула ночная птица. Женщина вгляделась в ночное небо, а черная тень скользнула к земле в поисках добычи.
— Не спишь?
Кловин вздрогнула.
Ленивая рука легла ей на грудь, звякнули браслеты. Он устроился поудобнее и, обняв ее, снова заснул. Капризное дитя, что играет жизнями и судьбами тех, кого он, надменно скривив рот, называет жалкими человечками. Но печальный крик большой птицы, промелькнувшей за окном, вытянул из ее памяти слова рыцаря в черных латах.
Утром ее разбудил солнечный свет, бьющий прямо в глаза. Рядом с ней никого не было, значит, Билэт ушел, пока она еще спала. Кловин позвала служанку и велела подать завтрак в постель.
— Скажи, ты видела, как ушел господин?
— Видела, госпожа. Он приказал седлать Серого и уехал с дружиной.
— А когда будет, не сказал?
— Нет.
— И ничего не просил передать?
— Нет, госпожа.
— Ну, хорошо, иди.
Кловин поднялась с постели и подошла к окну. Утреннее солнце заливало пустой двор. Несколько кур, сбежавших из птичника, выискивали зерна в навозе, застрявшем в мостовой.
Уехал и ничего не сказал… Когда вернется — неизвестно. От света заныли виски, и, обхватив голову руками, она прислонилась к холодной стене.
За завтраком она слишком тщательно пережевывала паштет и пила вино из слишком глубокого кубка. Ну и пусть. Одевшись, она снова легла в постель, задумчиво разглядывая высокие своды опочивальни, как две капли воды схожей с ее комнатой в замке мастера Рэндальфа.
День не спеша отползал от нагретых стен, оставляя за собой пятна зелени и распустившихся желтых цветов. Кловин радовалась, что скоро стемнеет. Воздух быстро остывал, и она приказала принести жаровню с углем. К ужину она пересела в кресло и, не глядя в раскрытую книгу, уставилась на тлеющий огонь. Отужинала в зале и снова поднялась к себе. Тяжелые думы источили ее душу час за часом, день за днем. С головой укрывшись одеялом, она свернулась клубком и думала, думала. О ребенке, которого может никогда не увидеть, о крысоловах, об убитой сестре, о кривом кинжале мастера за поясом Билэта и о народе, приютившем ее. О том человеке, кому отдала себя. «Насколько человек может позволить себе увидеть зло, чтобы не утратить желания жить?» — на этот вопрос из книжки по схоластике она не могла ответить. Возможно, потому, что не была человеком.
Месяц спустя на исходе дня небольшой отряд всадников под проливным дождем въехал во двор. Лошади фыркали, трясли головами и месили копытами жирную чавкающую глину, обдавая грязью и водой насквозь промокших солдат.
Кловин, прячась за ставни, высматривала одного-единственного мужчину с откинутыми со лба волосами и прекрасным лицом, мокрым от потоков дождя. Какова бы ни была цель похода — он был неудачен, она сразу догадалась об этом по злым глазам Билэта. Неважно, что он смеялся сальным шуткам солдат, хлопая коня по лоснящейся от влаги и пота шкуре, — Билэт был в бешенстве, и его выдавали кривившиеся уголки рта да рваные жесты рук. От уставших лошадей валил пар, и даже здесь она чуяла острую вонь от конского пота, смешанного с кислятиной немытых человеческих тел. Мужчины спешивались, держа коней под уздцы, между ними, получая пинки и зуботычины, сновали слуги. Лошади в предвкушении овса и отдыха нервничали и огрызались друг на друга. То и дело жеребец Билэта пытался подняться на задние ноги, но каждый раз хозяин силой останавливал его, крепко удерживая повод рукой в кожаной перчатке и шепча что-то ласковое ему на ухо. С морды жеребца летели клочья пены, он зло косил на человека выпуклым лиловым глазом, обнажая покрасневшее полукружье белка. Наконец жеребец ухитрился лягнуть ближайшую лошадь. Та шарахнулась и попыталась ударить обидчика в ответ копытом. Не дотянувшись, она в сердцах тяпнула за ухо слугу. Солдаты заржали и наградили несчастного пинком под зад. Тот жалобно завопил, в ответ послышался дружный гогот.
Солдаты утирали грязные лица, снимали переметные сумки, следили за тем, как конюхи отводят лошадей под навес, где обтирают их соломой и проверяют копыта. Дружина была довольна, тяжелые тюки заносились в дом, сквозь ливень неслась веселая перебранка голодных, усталых, но победивших мужчин. Но Билэт с застывшей улыбкой на лице был страшен. Он посмотрел в ее сторону, и она испуганно шарахнулась от окна. Он пошел к крыльцу, и женщина вернулась поближе к огню. Дождь лил третий день, и каменный дом насквозь отсырел. Дрожа в ознобе, она куталась в меховую накидку. По ее приказу жаровню подвинули прямо к креслу, и иногда ее башмаки едва не горели, но она никак не могла согреться. Ее трясло в нервной горячке, и с пальца похудевшей руки то и дело соскальзывала королевская гемма.
Снизу послышались возбужденные крики и смех, грохот и звон посуды. Это ближняя дружина готовилась к пиру. Конечно, сначала они вымоются и переоденутся в награбленное, потом будут хвастаться и орать, затем позовут жонглеров и танцовщиц… Кловин поплотнее закуталась в лисий мех и уставилась на пламя. Так она сидела все последние дни — почти не шевелясь. Рядом в высоком шандале догорали свечи, драгоценный свиток небрежно лежал на подставке вместе с принадлежностями для письма. Ох, как это она не сообразила… Женщина вскочила и поспешно сунула пергамент в небольшую дорожную шкатулку, а ее, в свою очередь, засунула за огромный кованый сундук, заменявший шкаф и скамейку в ее покоях.