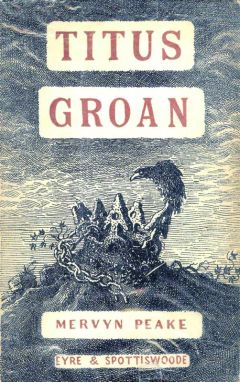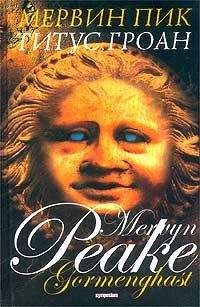Прюнскваллор, пропуская Графиню, широко распахнул дверь. Распахнул с театральной бесшабашностью, подразумевавшей, надо думать, что если дверь разломится или сорвется с петель или картина слетит со стены, то и пускай их. Дом принадлежит ему, он вправе делать здесь все, что ему заблагорассудится. Ежели он решился рискнуть сохранностью своего имущества – это касается только его. А в случаях, вроде нынешнего, разного рода мелочные соображения приходят в голову только черни.
Графиня прошествовала в середину комнаты и здесь остановилась. Она рассеяно обозрела все ее окружавшее – длинные лимонно-зеленые шторы, резную мебель, темно-зеленый ковер, серебро, фарфор, обои в бледно-серую с белым полоску. Возможно, разум Графини и обратился к пропахшему свечным салом, полному птиц, тускло освещенному хаосу ее спальни, однако никакого выражения на лице Графини не обозначилось.
– И… все… ваши… комнаты… похожи… на… эту?.. – пророкотала она, едва опустившись в кресло.
– Э-э, позвольте подумать, – сказал Прюнскваллор. – Нет, не в точности, ваша светлость… не в точности.
– Полагаю… они… безупречно… чисты… Ведь… так… а?
– Надеюсь, что так, да, да. Очень надеюсь. Не то чтобы я в течение года посещал больше пяти-шести из них, но при том количестве слуг, которые порскают взад-вперед со щетками и метлами, лязгая ведрами и выжимая тряпки, и при наличии сестры моей, Ирмы, порскающей по пятам их, приглядывая, чтобы кривое делалось прямым и наоборот, я ничуть не сомневаюсь, что все тут у нас простерилизовано настолько, что уж почти и не дышит – ни пятнышка на перилах, и ни единого микроба, питающего надежду на спокойное существование.
– Ясно, – сказала Графиня. Просто поразительно, сколько убийственного неодобрения удалось ей вложить в это короткое слово. – Однако я пришла поговорить с вами.
С миг она задумчиво проглядела перед собой. Коты, не шевелившие ни единым усиком, заполнили комнату. Их геральдические фигуры украшали каминную доску. Стол являл собою монолит белизны. Кушетка преобразилась в сугроб. Ковер был словно вышит глазами.
Голова ее светлости, всегда казавшаяся куда более крупной, чем то дозволено человеческой голове, была отвернута в сторону от Доктора и несколько склонена, так что мощная шея Графини напряглась, сохранивши, впрочем, пышность и полноту на ближней к Доктору стороне ее. Щека Графини почти совсем заслонила профиль. Волосы были по большей части забраны вверх в подобия красноватых гнезд, то, что осталось неприбранным, тлело, спадая змеиными кольцами на плечи и только что не шипя.
Доктор развернулся на узких ступнях, напыщенным жестом растворил дверцу горки из атласного дерева, дернув головой, отбросил со лба копну седых волос и переплел под подбородком длинные белые пальцы. Затем, снова поворотясь к Графине (так и сидевшей, подставляя взорам его плечо и примерно осьмушку лица), сверкнул зубами и вопросительно завел брови:
– Ваша светлость, – сказал он, – то, что вы решили нанести мне визит и обсудить со мной некую тему, – великая честь для меня. Но прежде всего – что вы будете пить?
Распахнув дверцу горки, Доктор выставил напоказ самую редкостную и изысканную коллекцию вин, какую только можно было подобрать в его погребе.
Графиня повела по воздуху огромной головой.
– Кувшин козьего молока, Прюнскваллор, если вас не затруднит, – сказала она.
Все в Докторе, что почитало красоту, изящество, тонкость и избранность, – а в нем присутствовали многие качества, живо откликавшиеся на эти абстракции, – скукожилось, будто улиточьи рожки, и едва не приказало долго жить. Впрочем, когда он, внешне сохранивший полное самообладание, вновь повернулся к Графине, ладонь его, вознесенная было в воздух, но задержанная на полпути к солнцу, плененному некогда на давно уж забытых виноградниках, всего лишь запорхала туда-сюда, будто дирижируя оркестриком гномов. Доктор отвесил поклон, блеснул зубами, позвонил в колокольчик, и когда в двери появилось лицо:
– Коза у нас есть? – спросил он. – Ну же, ну же, любезный – да или нет? Есть у нас коза или таковая отсутствует?
Слуга положительно заверил его, что коз в хозяйстве не имеется.
– Ну так, сделайте милость, отыщите какую ни есть. И немедля. Нам необходима коза. Ступайте.
Графиня уселась поудобнее, широко раздвинув ступни и свесив по сторонам кресла тяжелые весноватые руки. Наступило молчание, которое даже Прюнскваллор не нашел чем нарушить. В конце концов, нарушил его голос Графини.
– Зачем вы втыкаете ножи в потолок?
Доктор заново перекрестил уже скрещенные ноги и последовал за безучастным взглядом Графини, прикованным к длинному хлебному ножу, который, казалось, вдруг заслонил собою все находившееся в комнате. Одно дело – нож в каминной решетке, или на подушке, или под креслом, и совсем другое – нож, окруженный белой пустынею потолка: такому негде укрыться, он наг и вопиющ, как свинья в кафедральном соборе.
Впрочем, Доктор находил плодоносным любой предмет разговора. Его пугало лишь отсутствие темы, а столкнуться с таковым ему случалось редко.
– У этого ножа, ваша светлость, – сказал он, окидывая названное орудие взглядом, исполненным глубочайшего уважения, – хоть нож он всего только хлебный, имеется своя история. История, мадам! И весьма интересная.
Он обратил к гостье взгляд. Гостья безучастно ждала.
– Сколько ни выглядит он скромным, неромантичным, несоразмерным и грубым, для меня этот нож многое значит. Хоть я, мадам, смею вас уверить, я – человек не сентиментальный. Тогда почему же? – спросите вы себя. Почему? Позвольте, я вам все расскажу.
Он сцепил ладони и несколько сгорбил узкие, изящные плечи.
– Именно этим ножом, ваша светлость, я произвел первую мою успешную операцию. Я скитался в то время в горах. Огромных, поросших травою горах. Полных своеобразия, но начисто лишенных обаяния. Я был один с моим верным мулом. Мы заблудились. Над головою моей промчал метеор. Но что проку было нам от него? Никакого решительно не было. Он лишь вывел нас из себя. На миг в нездоровых зарослях папоротника обозначилась тропа. Определенно не та, что нам требовалась. Она лишь привела бы нас обратно в трясину, из которой мы только что выбрались, убив на это полдня. Каково изложено? Как коряво изложено, ваша светлость, ха-ха-ха-ха-ха! Так о чем я? Ах, да! Совершенная тьма. Многие мили до чего бы то ни было. И что же вдруг происходит? Удивительнейшее событие. Я погоняю мула палкой – в ту минуту я ехал на нем, – и внезапно эта скотина вскрикивает, точно дитя, и оседает наземь. А оседая, поворачивает ко мне огромную, косматую голову и, хоть света совсем мало, я вижу, что глаза его положительно молят меня об избавлении от некой непонятной мне муки. Следует сказать, ваша светлость, что мука есть вещь мучительная для всякого, кого она мучает, но обнаружить вместилище муки в муле, во тьме, средь гор и нездоровых зарослей папоротника это… э-э… нелегко (литота!), ха-ха-ха! Однако надо же что-то и предпринять. Мул, здоровенный такой, уже лежит в темноте на боку. Я успел соскочить с него, пока он оседал, и уже напрягал мои умственные способности до пределов возможного. Глаза животного, не отрывавшиеся от меня, походили на лампы, в которых кончается масло. Я задал себе пару вопросов – уместных вопросов, как мне представлялось в то время, – и первый из них был таков: ЯВЛЯЕТСЯ ли его мука душевной или телесной? В первом случае, темнота не составит помехи, однако исцеление окажется делом прекаверзным. Во втором, темнота не сулит никакого добра, зато задача, которую предстоит разрешить, – вполне по моей части. Или почти по моей. Я выбрал второе, и благодаря скорее удаче, нежели тому удивительному шестому чувству, которое нарождается в человеке, очутившемся один на один с мулом среди поросших травою гор, почти сразу же обнаружил, что выбор мой оказался верен, ибо, едва решившись исходить из начал телесных, вцепился мулу в голову и повернул ее под таким углом, чтобы тусклое тление его глаз окатило – слабенько, разумеется, но, тем не менее, окатило смутным светом остальное его тулово. И я был немедля вознагражден. Взорам моим предстал чистейший случай «инородного тела». Вкруг задней ноги животного обвился – уж и не скажу вам, сколько раз – питон! Даже в тот страшный, все решающий миг я не мог не отметить его красоты. Он был гораздо, гораздо прекраснее моего старого мула. Но пришла ль в мою голову мысль, что мне надлежит перенести свою привязанность на рептилию? О нет. В конце концов, на свете существует не одна красота – есть еще и верность. К тому же, я терпеть не могу пешей ходьбы, а ехать верхом на питоне, ваша светлость, есть испытание, слишком обременительное для человеческого терпения. И кроме того…