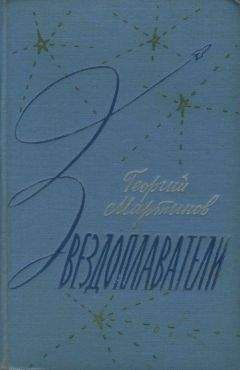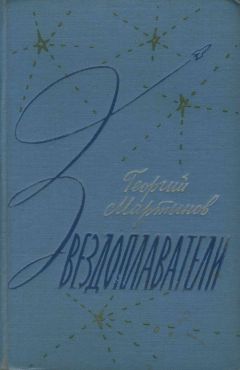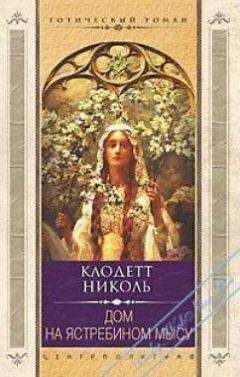«Осень… Вон уж и листва на рябине покраснела, и березы почти голые… а вода в лужицах, хоть и утро на дворе, без ледяной корочки — конец августа — начало сентября… В хабзе учебный год начался… на этот раз без него. Кто знает, когда удастся вернуться? И удастся ли?..»
Голова болит адски — видать, продуло намедни… надо бы отвару брусничного попить… Тимша кряхтя подкинул в прогорающий костер пару-тройку сосновых полешек и попытался задремать — авось пройдет боль-то…
«Как спать-то, ежели дозорным ставлен? — укорила некстати очнувшаяся совесть. — А случись чего?»
«Чего случись-то? По сю пору ничего не случалось, и дале так будет…» — отмахнулся от надоеды Тимша перед тем, как задремать окончательно.
Толком выспаться все же не удалось — у берега скрипнули уключины, негромко стукнул о причал привальный брус, грюкнули по прибрежным камням кованые железом сапоги…
«Не иначе купцы кандалакшские за семгой… — лениво подумал Шабанов, — или монаси Соловецкие… не спится им, богомольцам!»
Ладно — званые, нет ли, а любой гость от Бога. Шабанов начал привставать — гостю кланяться полагается… но застыл на полуразвороте и растерянно охнул — с ошвартовавшейся у неказистого рыбацкого причала свейской иолы[9] почти беззвучно спрыгивали воины с длинными тяжелыми мечами в руках. Чуть в стороне, прошуршав галькой, в берег уткнулся яхт,[10] а из-за высоких закрывавших губу от моря скал, появлялись новые и новые суда.
«Свеи! Набег!»
Крик надсадно продирался сквозь пережатое испугом горло, бился в до боли стиснутые зубы… Тщетно — наружу вырывалось лишь хриплое дыхание. Совсем рядом, в притулившейся к рябиннику промысловой избе, спят поморы.
Разбудить! Растолкать, коли голос пропал! Уходить надо! Погосты поднимать! Если не Порью губу, так хоть Умбу спасти!
Тимша вскочил — вот она, изба, десяток шагов, не боле!
Пресвятая богородица, что с ногами?! Ровно из киселя сделаны! А голова-то, голова! Чугунный шар, угольем набитый! Грешников в аду в таких жарят!
Всего один шаг, и слабость бросила на утоптанную до каменной твердости землю. Желудок скрутило мучительным спазмом. Тимша судорожно глотнул… не помогло — рвота хлынула, обжигая рот, хлынула и потекла, пачкая вонючей зеленью порты…
Немного полегчало… Боль отодвинулось, но не ушла казалось, в голове ворочается кто-то чужой, бормочет непонятное… ругается… Бесы одолели? Не ко времени! Ох, и не ко времени!
Тимша натужно приподнялся, рукавом утер испачканные губы… Теперь бы встать!
Встать не удавалось. Шабанов застонал, упал на бок. Мозг раскаленным гвоздем прожигало тимшино: «Предупредить, предупредить надо!» Пальцы, ломая ногти, впились в землю, подтаскивая к избушке — по сантиметру… пока не уперлись в жесткий пропитанный морской солью сапог.
«Моя вина! Моя!!! Эх, кабы жизнь сначала начать…» беззвучно всхлипнул Тимша… прежде чем окончательно исчезнуть.
Тишина и уют пещеры испарились в ослепительной вспышке. Мир навалился со всех сторон — холодный, злой, пахнущий железом и рвотой. В волосы, задирая лицо к небу, вцепились жесткие пальцы. Над беззащитно обнажившимся горлом взметнулось лезвие меча. Показавшийся над водой краешек солнца бросил на клинок жарко вспыхнувший луч.
— Hans! Stöt thrällin dö — bär rov thik siälfer! /Ханс! Зарежешь раба — самого добычу таскать заставлю! (древнешведск.)/
Меч замер на взлете. Солнечный луч неуверенно скользнул к рукояти и растворился в тенях. Разжалась державшая волосы рука… Шабанов не понял сказанного глубоким властным баритоном, однако смерть явно откладывалась… Сергей рискнул скосить взгляд на избавителя.
Первой в глаза бросилась до блеска начищенная кольчуга, затем круглый шлем с острой стрелкой наносья и спадающей на плечи бармицей,[11] меч в украшенных серебрянными накладками ножнах, наконец уверенно попиравшие доски причала красного сафьяна сапоги… Воевода… или атаман разбойничий — кто их поймет, каянцев…
— Bort medh swärdh, Hans! /Убери меч, Ханс! (древнешведск.)/— в голосе добавилось металла. Стоявший над Шабановым, недовольно заворчал и с треском вогнал клинок в ножны.
— Huath skulu vi göra medh swa mager, Pekka? Nogh them som takn i hws! /Зачем нам этот дохляк, Пекка? Хватит и тех, что взяли в доме! (древнешведск.)/
Смысла сказанного Шабанов не уловил. Воевода же на возглас не прореагировал — наблюдал, как из промысловой избы выводят в кровь избитых мужиков.
Повинуясь чуть заметному жесту воеводы, к пленным приблизился одетый в куртку из толстой бычьей кожи воин. В руке его хищно поблескивал взведенный арбалет.
— Не пойтесь мужикки — жить путете! — осклабившись сообщил каянец. Чудовищный акцент делал речь едва пригодной для понимания. — Натто рыпа носить, соль носить. Пыстро-пыстро носить! Токта хорошо путет! Томой пойтете!
— Ага, — буркнул Никодим Чунин, покрученник с Варзуги. — Домой пойдем… А еще нам по теплой бабе… путет! Другому кому байки рассказывай.
Финн — акцент завсегдатаев мурманских кабаков Сергей знал, как любой северянин — укоризненно поцокал языком и погрозил Никодиму похожим на сардельку, пальцем:
— Плохой мужик! Групый! Такой нелься долго жить!
Звучит короткий приказ — небрежно, даже лениво… Стоящий рядом с Шабановым воин текучим движением смещается к варзужанину. Снова взмывает меч, и на этот раз полет никто не останавливает…
Голова Никодима, глухо постукивая по валунам, покатилась к прибою. Тело, не веря в смерть, лишь пошатнулось. Из обрубка шеи высокими фонтанчиками плеснула кровь.
— Патай! — со смешком приказал толмач. Обвитый кожаным ремнем кулак толкнул обезглавленное тело.
— «Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего», — негромко начал читать молитву староста тони, Серафим Заборщиков, — «ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи…»
— Huath mumlar swa ryz? /О чем бормочет этот русс? (древнешведск.)/ — поинтересовался воевода.
— Bidher till gudh, /Молится (древнешведск.)/ — пожал плечами толмач.
Вожак усмехнулся.
— Lat göra Vadhe är the som gnisslar taender medh onzka! /Пускай! Опасаться надо тех, кто зубами от злости скрипит! (древнешведск.)/
Стоящая у причала иола готовилась принять добычу.
— Тафай, мужики! — заторопил поморов толмач. — Рапотать нато!
Отзывавшийся на имя Ханс снова возник над Серегиной головой, выразительно бросив ладонь на оголовье меча.