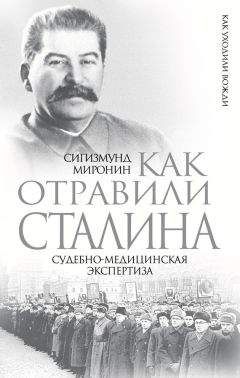— Привет, м-мамаша, — вполне миролюбиво сказал Геня. Злоба его на коварный и злой мир выдохлась и, вероятнее всего, он забрался бы в будку и грохнулся спать, если бы не пудель: он, почуяв Геню, злобно зарычал и сунулся оскаленной пастью к Гениной ноге. Тот выругался и хотел пнуть собаку, но старуха схватила его за локоть:
— Перестань же дразнить собаку, наконец! Ах, безобразие какое.
— А он… чего?
— Его как раз можно понять. Помнишь тот твой удар? Он не забыл.
— Ах, он не забы-ыл… И вы туда же, паскуды… — В Гениной голове снова заплескалась мутная, больная тоска.
Над стройкой раскатилась звонкая соловьиная трель. Кобель тихонько завыл. На носу его жирно отсвечивал лунный блик. Комендантша подняла голову и выжидательно поглядела на Геню. А он рос, пучился над ней, и ладонь его все сильнее сжимала острое бутылочное горлышко. Давно не испытываемая радость потряхивала его, словно лихорадка. Вот, вот она, вражина, и наконец-то ему будет покой! Сейчас он отомстит и за прошлые свои отсидки, и за Полину, и за жизнь с Раисой, и за другие свои неудачи. Свист соловья достиг необычайной силы. Вокруг было светло и пусто. Скрипов резко размахнулся и вонзил бутылочное горлышко в сухую и длинную старухину шею. Обливаясь кровью. Комендантша упала с чурбачка. И тут же ослепительный свет, гораздо ярче лунного, вспыхнул над строительной площадкой и озарил ее. И Геня увидел Зону Тот же забор, только — с вышками для часовых, их светлые во вспышке силуэты он видел совершенно отчетливо. Толпа гульливых некогда, а теперь угрюмых друзей-корешков окружила Геню, жала ему руку, кричала приветствия. Спокойно, с достоинством принимал он эти знаки внимания, Но затем свет пропал, Зона исчезла, и ужасная мысль проникла в пьяный, разгоряченный преступлением мозг: а если — не Зона, а выше, до самых пределов? Станет кто-то церемониться, если речь зайдет о рецидивисте, хоть и бывшем! Геня застонал, выронил из окрашенной чужой кровью руки зазубренное стекло, повалился на скамейку и потерял сознание.
Утром он пришел в себя, ощутив, как к лицу его прикасается и гладит что-то теплое, мокрое, шершавое. Открыл глаза — черный пуделек стоял над ним и лизал щеки, нос, губы. Геня вздрогнул, чихнул — и собака тотчас унеслась через дыру в заборе. Он сел, огляделся.
Ни души. Поднял с земли зазубренное бутылочное горлышко, без всяких следов крови. И старухи нет, и не похоже, чтобы ее уносили, уж его-то в этом случае побеспокоили бы обязательно! Значит, поблазнило? Вот ведь какая приключилась сатана! Геня вспомнил свои вчерашние похождения и покачал головой. Нет, надо завязывать с этими делами, а то нарвешься, чего еще проще… Он взял горлышко, спустился в котлован и похоронил его рядом с закопанной молодым специалистом тяжелой золоченой кистью и белой папкой дяди Миши Мохнутина. Постоял немного, повздыхал о чем-то своем и пошел заколачивать дыру в заборе.
Когда, ближе к обеду, на стройке снова появилась Комендантша, Геня сначала не поверил своим глазам: шея у нее была забинтована.
— Где шею повредила? — спросил ее бригадир Костя, и она ответила коротко:
— Поранилась о стекло.
От таких слов у бывшего рецидивиста закололо в груди. Стараясь не глядеть на старуху, он направился в будку, занял там у дяди Миши рублевку, сходил в столовую, купил три котлеты пикантных, завернул их в газетку и на стройке отдал черному пудельку. Тот сожрал подарок с большим аппетитом, а Комендантша — так показалось Скрипову — поглядела на него с необыкновенной мягкостью. Весь остаток смены он был бодрым и веселым.
Начальник строительно-монтажного управления Илья Иванович Муромцев вернулся домой поздно вечером и сильно не в духе. Шуганул по углам дочерей Маланью да Василису, чтобы не мешались под ногами, достал из большого холодильника бутылку чешского пива и выпил всю махом. Опять вызывали в трест, 'опять была накачка, лупанули выговорком. Вроде многие годы прошли на стройке, а вот, поди ж ты, — каждый раз неприятно. Как будто он виноват в том, что опять все делается не как следует. Или никак не делается. Порядок, конечно, есть порядок, выговор тоже нельзя не дать. Разве он не понимает? Мастер спросит с бригадира, тот разведет руками: а я при чем? Того не было, то не дали, другое не завезли. Один был на больничном, другой на сессии райсовета, третья в декрете. С мастера спросит прораб и услышит в ответ почти то же самое: я бы, мол, с удовольствием и доброй душой, да ведь сам видишь, как получается… И так до министра, а уж он перед кем там оправдывается, бог весть. Каждый в чем-то виноват, и у каждого, опять же, есть причины выставлять себя правым. И оправдаются, каждый оправдается, разве ж начальство не понимает, не входит в положение? Ну, начальник СМУ даст выговор прорабу, начальник главка — управляющему трестом, что от того изменится? Да он их уже считать перестал, эти выговоры. Выговорешники, выговорунчики… Нет, за производственные дела теперь сильно, по полной катушке не нагорает. Нагорает, вплоть до снятия и прочих оргвыводов, за другое… Если докопались, что воруешь, или всплывет крупная аморалка, раздутая недругами до чрезвычайных размеров. А так — ничего.
Илья Иванович Муромцев выпил еще холодного чешского пива из большого холодильника, поморщился на крики бесящихся в другой комнате девок, пожалел, что нет на них жены Варвары, уехавшей лечиться в санаторий, и стал укладываться спать.
СОН
Как побил он силушку великую, поганую, да и поехал во стольный Киев-град дорожкой прямоезжею. Заколодела дорожка, замуравела. Перестал тут добрый конь с горы на гору перескакивать, с холма на холм перемахивать, мелкие реченьки, озера промеж ног пускать.
Возговорил Илья Иванович таковы слова:
— Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! Ты чего, собака, спотыкаешься? Или плетка по крутым бокам долго не хаживала?
Отвечает Бурушка-косматушка:
— Ой, сын Иванович! Ты дородный добрый молодец! Впереди, у Черных Грязей, у речки у Смородины, возле Леванидова креста стоит дуб сырой. Сидит в нем Соловей-разбойник Одихмантьев сын. От его-то посвиста соловьиного травушки-муравушки уплетаются, лазоревы цветочки приклоняются, а что есть людей — все мертвы лежат…
Ах! — как свистнул плеткой!
— Не слыхал ли, собака, посвиста соловьиного? Не видал ли ударов богатырских?
Скок, скок! Через речку Смородину, к кресту Леванидову, ко сырому дубу…
Рыжий, лохматый, свесился с ветвей в диковинном кафтане, и — фью-юу, фью-у-у-у-ухх!.. Аж земля полетела, рыба поскакала из речушки на берег.
Наладил тугой лук разрывчатый, натянул шелковую тетивочку, наложил каленую стрелочку — вж-жик! Бахнулся рыжий с воем оземь, закатался. Куд-да-а? Пристегнул его ко стремечку булатному, повез по чисту полю. Барабается, скулит в тороках…