Он слушал Учителя и никак не мог сосредоточиться. Все смешалось в тугой запутанный клубок оборванных нитей. Центрай, бессмертие, бальтазаровский зачет и Луна. Все щетинилось, цеплялось, раздражало. Особенно Луна, бездарный лунный цикл, от него веяло примитивным мистицизмом. Он не любил средневековых иносказаний; демоны, чертовщина всегда его раздражали. Он это называл азиатщиной, бездарным сном разума, пищей невежественного ума. Разве мог он, властелин мира, покоритель пространства и времени, кудесник элементарнейших частиц, повелитель лживого вакуума и еще бог знает чего материального, отдать природу на откуп потусторонним силам? Нет, и еще раз нет. Это унизительно для свободного человека. Зачем тогда вообще человек, если он всего лишь подобие? Зачем мозги подобию? Для облегчения жизни надчеловеческим существам? Или игра ума, пятнашки для развлечения идеальных существ? Нет уж, черта с два, это он двигает костяными цифрами, пока из них не выйдет порядок. Порядок, порядок из хаоса, как говорил Учитель.
Да, Учитель изменился. Он и сам признался: «Я уже не то, Сережа», — и даже не улыбнулся, жалко, с извинением, как это обычно бывало. Было ясно, что над Учителем нависло какое-то тяжкое задание, какое-то старое, незавершенное дело, и теперь, когда смерть отошла на громадное расстояние, это дело неизбежно нужно разрешить, ибо оно все равно придет рано или поздно, потому что и поздно теперь уже никогда не будет.
— Завтра начинаются слушания комиссии конгресса, — оторвался наконец от газеты Феофан. — Показания дает господин Синекура!
— Ну прощай, Сережа, — Илья Ильич повернулся, вяло махнул розовым рукавом и пошел к машине.
Прощание закончилось. Сергей Петрович приоткрыл дверь бота, еще раз оглянулся на центрайский пейзаж и провалился в пустоту космического одиночества. Кажется, так. Или не так. Кажется, еще подбегала Урса, дарила на прощанье безупречного вкуса букет, печально смотрела на него агатовыми глазами, гладила бритую щеку, прикасалась упругим, вечно молодым телом. А потом он окончательно провалился в лживое беспросветное состояние. Он остался один, вне людей, домов, деревьев. Отсюда, извне, он ничего не мог предпринять, здесь не за что было ухватиться. Сухие пустые множества без длин и ширин как пожухлые осенние листья кружились вокруг, не зная, в каком направлении падать. Хоть бы что вокруг неизвестное! Все покорилось его желаниям, и нечего больше исследовать. В мире нет ничего, кроме того, что он способен представить, нет ни одного существа, способного превысить его возможности, все покорилось ему, даже загробный свет скорчился, скукожился одним-единственным бальтазаровским вопросом.
Заныла от холода спина. Дальше лежать было опасно, могло прострелить. Он выбрался наружу. Кое-как, путаясь, блуждая, вышел из лабиринта на более-менее свободное пространство и наконец обнаружил границу старого крепостного сооружения. В сумеречном свете едва угадывались цвета. Слева обшарпанная бочка красно-коричневой башни, справа элегантное двухэтажное строение, строгий классический фасад, желтоватые стены, железная крыша, антенна телевидения, а посреди, прямо по курсу, золоченый купол Исаакия. Все это сверху было бережно накрыто газовой вуалью белой ночи. Сердце у него заныло, как будто здесь, сейчас ему напомнили давно прочитанное и забытое сентиментальное место. Он был уверен — пройди вперед шагов сто, и слева откроется старая родная площадь с серо-зеленым дворцом-музеем, с полукруглым государственным домом, с полированной отвесной поверхностью александрийского столпа.
Вот уже неделю Трофимов пытался отыскать Софью Ильиничну Пригожину. Он поселился на Халтурина двадцать семь в ветхой обшарпанной гостинице, ныне носившей имя «Академической», единственным преимуществом которой являлось удобное расположение по отношению к центру города. С огромным трудом, используя весь свой профессиональный опыт, Константин Трофимов занял койку в номере люкс на двух человек. Кроме отсутствия горячей воды, отдельного туалета и душа в его распоряжении было темное маленькое окно с видом на глухой серый двор, из которого по ночам доносились протяжные голоса командировочных. То были в основном лысеющие кандидаты наук участники совещаний, конференций и секретных хозяйственных договоров. Впрочем, к субботе основная масса научных работников схлынула, и опустевшие номера заполнили двухдневные туристы. Эти удержу не знали. Смоленские, псковские, новгородские, загрузившись колбасой и одежкой, пили страшно.
— Отчего так пьете? — спросил Константин соседа, когда тот вывернул в открытую форточку полтора литра портвейна «Кавказ» вперемешку с болгарским перцем.
— Очень хочется, — прослезился моложавый старик, и его еще раз стошнило в окно.
В номере кисло запахло желудочным соком, и Трофимов вышел в коридор. Узкий, крашеный до плеча зеленым цветом проход гудел тонкими фанерными перегородками. Народ гулял. Мимо в поисках чего-нибудь женского шныряли представители среднего звена, озабоченно бегала администратор этажа с разорванным вафельным полотенцем и на ходу жаловалась: «Ну, вертеп, сущий вертеп». Одно слово — нумера! По слухам, здесь до революции действительно располагались нумера и, кстати, в номерах люкс до сих пор сохранились небольшие косые комнатушки, вроде бы для денщиков. Можно представить, каково было узнать капитану Трофимову о дореволюционном прошлом «Академической». Да мало ли было у него проблем.
Он прошел через черное горло налево, мимо магазинчика, где торговала тетя Саша, еще левее, к набережной, к пространству белой ночи, взглянуть на разведенные к небу половины мостов. Представленная панорама лишь усилила и без того невеселое настроение. Где ее искать? Как? Городишко вырос, распух и намертво поглотил прежних жителей. В горсправке ему дали адреса трех Софий Ильинишен. Одна оказалась давно пенсионеркой, а две других, с Васильевского острова и с Купчино, подходящего возраста, отпали после проверки на месте. Потом он день напролет сидел в номере и думал. Да так ничего и не придумал, а только пошел в ночь куда глаза глядят. Так он странствовал еще день и вдруг заметил, что его то и дело тянет на дворцовую площадь. Два раза побывал у двери генерального штаба, трижды сходил в Эрмитаж — стоял у сиреневого высокого окна и глядел на Петропавловскую крепость. Конечно, он и не подозревал, как год тому назад здесь стояли Соня с Евгением и обсуждали державность течения Темной. Но все же какой-то собачий нюх вел его все ближе и ближе к тому единственному месту, где он обнаружит Соню. А ведь каждый вечер, возвращаясь поздно домой мимо третьего окна государственного дома, он тупо глядел на букетик живых цветов, не утруждаясь даже задуматься.
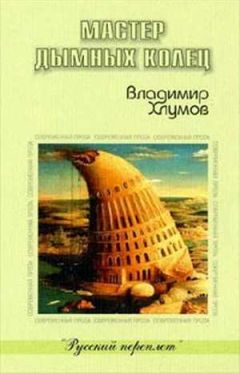


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
