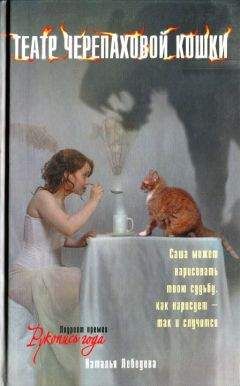Мальчик не хотел на него смотреть. Он изогнулся, запрокинув голову, и на него надвинулись сосновые стволы и кроны, похожие на высоко подобранные юбки. В кадре было только бледное мальчишеское лицо и лес, который качался у него перед глазами, но за кадром происходило что-то еще. Рвалась ткань, лихорадочно мелькала перед камерой широкая мужская ладонь…
И тут мальчик увидел острую крышу дома и секцию забора — Виктор понял, что почти добежал до поселка возле станции.
Мальчик набрал воздуха в грудь и крикнул со всей силы: тонко, но громко. Лесное эхо подхватило и усилило крик, где-то истерично взгавкнула собака. Насильник вздрогнул и снова положил ладонь — темную, тяжелую, как пресс-папье, — на белое, как бумага, мальчишеское лицо. Собака пролаяла еще раз. К ней присоединилась другая, и что-то невнятно, но громко, пробасил мужской голос.
Насильник опустил глаза, опустил вторую руку на тонкую шею и стал давить и давил, пока не закатились мальчишкины глаза…
Виктор очнулся через несколько минут. Он сидел на диване, крепко сжимая пульт рукой. На экране было меню «Записанного видео», и в нем, как и в прошлый раз, — только один пункт, «Лучшее видео канала СЛТ».
Он собрался с силами и запустил все сначала. Сидел, смотрел и только финальную сцену прощелкал кнопкой «Skip», потому что видеть ее было невыносимо. И вдруг оказалось, что остекленевшие глаза — еще не конец. После них пошла вся та же заставка с мельтешением, а потом возникла студия, синевато-серая, холодных тонов и безо всякой обстановки: стена и пол, и только по центру стоял высокий барный табурет, на котором сидела силиконовая девица. У девицы были прямые черные волосы, накрашенные кроваво-красным яркие губы, красная блузка с глубоким вырезом, в котором колыхались большие мягкие груди, очень короткая юбка и неестественно длинные ноги. На блестящую подножку табурета девица опиралась лакированной туфлей на шпильке и с высокой прозрачной подошвой.
Она молча смотрела на Виктора секунду или две, а потом открыла рот и проговорила:
— Вы смотрели программу «Лучшее видео канала Эс-Эль-Тэ». Встретимся завтра. До свидания.
Слова не совпадали с движением губ, звук чуть-чуть запаздывал, но Виктор почти ничего не слышал: он безотрывно смотрел на ее рот и не мог отвести глаз.
Ему стало стыдно. Никогда в жизни синтетические телевизионные девицы не привлекали его. Мало того, Виктор считал невыносимо пошлым обращать внимание на ярких, вульгарных женщин, одетых так, словно они предлагают себя.
И никогда в жизни он не хотел никого так сильно, как эту ведущую.
1
По квартире было разлито электричество. Впервые историк начал ощущать это еще в прошлом мае, но сейчас в комнатах отчетливо пахло озоном, и крохотные разряды потрескивали так, что иной раз хотелось отмахнуться от них рукой. Пахло освежающе и терпко, совсем как в детстве, дышать хотелось всей грудью, и даже слышались глухие, еле уловимые раскаты грома.
Историк мог сколь угодно долго развивать метафору, но легче от этого не становилось. А главное — не становилось понятнее, что происходит.
Ответ пришел около месяца назад: Яна. Это Яна несла с собой грозы, бури, наводнения, цунами… Его маленькая дочка вдруг выросла и теперь распространяла вокруг себя напряжение желания — полузабытое историком и потому отчетливо возвращающее его в детство.
Ему было, наверное, лет двенадцать или чуть больше, когда он впервые почувствовал грозу, идущую изнутри. Сколько лет было той девушке? Наверное, если подумать, столько же, сколько и его дочери сейчас. Но тогда она казалась недосягаемо взрослой.
Света. Да, ее звали Света, и она жила в деревянном доме с крыльцом и маленьким садом. Частный сектор начинался сразу за пятиэтажкой историка, он видел ее из окна и через редкий забор, когда проходил мимо, а иногда просто встречал на улице.
В первый раз историк разглядел Свету в полевой бинокль: к отцу пришел друг, и, чтобы сын не мешал, ему дали бинокль вместо игрушки.
Историк пошел в свою комнату, влез на подоконник и стал смотреть. Бинокль неприятно холодил нос и пах странной смесью запахов металла, пластмассы и чужих ладоней. Мир, прошедший сквозь оптические стекла, казался странным, немного искаженным и чуть зеленоватым, и можно было представить, что смотришь не из окна во двор, а из иллюминатора субмарины на морское дно.
У него не было намерения специально подглядывать за Светой: бинокль сам выхватил ее из мутной окружающей зелени, и черный с насечками крест аккуратно лег на ложбинку между ее грудей. Света полола. На ней была широкая, отцовская наверное, рубаха, застегнутая едва ли на пару пуговиц. Под рубахой ничего не было надето. Историк видел в бинокль, как она нагибается, как отходит от тела ткань и становятся видны маленькие аккуратные груди, похожие на конусы из кабинета рисования.
Он отпрянул от окна. Сразу представилось, как взрослые зайдут в комнату и станут ругаться, когда увидят, что он делает с биноклем, который ему доверили «по большому блату», как выразился отец.
Потом первый испуг схлынул, и историк подумал, что никто ничего не поймет, даже если зайдет и увидит его с биноклем на подоконнике: мало ли на что он может смотреть.
Тогда историк снова залез на подоконник, навел бинокль на двор Светиного дома и еще немного посмотрел на ее грудь…
Да, именно тогда он почувствовал возбуждение в первый раз, и это было очень сильное чувство.
Историк потом все время мечтал о ней, а однажды вечером увидел в подворотне. Было темно, стояла ранняя осень, и какой-то высокий парень целовал Свету, крепко прижимая ее к себе. Другая его рука задирала платье и подол легкого пальто, длинные костистые пальцы мяли красивый Светин зад.
Историк вспоминал, какими яркими были тогда ощущения.
Это теперь уже ничто не было ему в новинку, ничто не заставляло сердце биться так отчаянно быстро, жизнь текла к концу, и только Яна — новая, непривычная, пугающая, неожиданно взрослая Яна — вдруг заставила его вспомнить.
Он стал смотреть на дочь с таким чувством, будто подсматривает: отмечал, как красиво лежит у нее на груди ткань шелковой блузки, какие у нее стройные ноги и как пугающе коротка юбка.
Он ловил исходящие от нее волны возбужденного ожидания и вдруг осознал, что это волнует его почти так же, как в детстве — вид обнаженной девушки. Осознал — и испугался, и словно бы снова спрыгнул с подоконника, держа от себя опасный бинокль на расстоянии вытянутой руки. Это было нельзя. Нельзя было касаться дочери грязными мыслями.