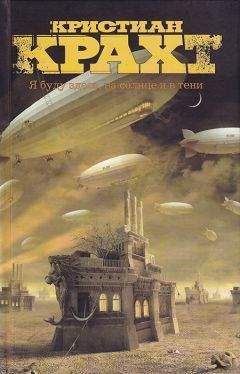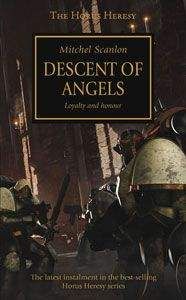— Это, сынок, Рейхенбахский водопад, — сказал старик торжественно, приподнял двумя пальцами кончик носа и начисто поскреб бритвой труднодоступные места между ноздрями и верхней губой. — Мы держим здесь позицию, несколько мванов и я. Если они не пьяны, то от страха перед немцами мочатся себе в штаны. А ты, ты тоже обмочился? — Он указал лезвием бритвы на замерзшую спереди на моих штанинах мочу.
— Да. Я боялся умереть от взрыва мины.
— Я уже не боюсь. Я разучился читать, как умел раньше. Война делает нас умственными калеками. Знаешь ли ты, что я не застал мира, даже младенцем? Этим летом мне исполняется семьдесят шесть. После нас больше ничего не будет. Или все будет продолжаться так и дальше.
— Пойдем обратно вниз, солдат.
— Ты извини, что я так неформально к тебе обращаюсь, я знаю, ты офицер в высоком чине, но это потому, что ты черный…
— Все в порядке. Давай, пошли.
Он медленно и бережно засунул бритву в свой мешок и с легким стоном поднялся. Затем с опаской показал мне несколько разноцветных стеклянных шариков, которые, по его словам, носил с собой с самого детства. Он вдруг заплакал, и соль его слез выжигала в тех местах, где прошлась бритва, тонкие красные полосы на щеках. Он весь трясся, его била крупная дрожь, я был вынужден поддерживать его под руку, потому что он едва не соскользнул с выступа в водопад. Обняв его, я спускался вместе с ним по обледенелой каменистой дорожке назад, в деревню. Полудикая овчарка маячила какое-то время неподалеку, но затем почуяла на поле раненую птицу, стрелой бросилась к ней и разорвала в клочья истекающую кровью добычу под громкое улюлюканье и крики «Ура!», издаваемые красногвардейцами из-за мешков с песком. Старый солдат отер рукавом слезы, чтобы его не увидели в таком виде, и направился к ним.
На расстоянии двух верст от Майрингена, там, где берет начало Аара, ниже массива Шрекхорна, располагался один из входов в Редут. Двойные, раскрашенные небольшим швейцарским крестом бетонные опоры обозначали вход в глубокий, временами шириной всего лишь шесть или семь метров каньон Аары, казавшийся словно вырубленным в скалах с помощью топора. Из заледеневших водяных каскадов в ущелье капали капли, в некоторых местах морозные стены были покрыты сине-зеленой плесенью; стволы деревьев, сучья и скалы покрывали землю вокруг ручья, бегущего через каньон в направлении долины. Ржавые, покрытые снегом стальные балки были тут и там уложены и подвешены в каньоне так, что, начиная отсюда, пройти бронемашинам или даже лошадям было невозможно; я оставил коня, не сняв седла, и он, голодный, тут же рванул рысью вперед, в поисках мха и лишайников.
Еле заметные закрепленные в стене бетонные кабины служили наблюдательными постами. За горизонтальной смотровой щелью всегда стоял солдат, практически невидимый отсюда, снизу. И хотя невооруженным взглядом едва ли можно было разглядеть, есть ли кто-нибудь в маленьких бункерах, от них исходило что-то рождавшее ощущение, что за тобой наблюдают. Я сел у ручья на ствол дерева, медленно и степенно съел немного нсимы и чуть-чуть снега, чтобы на постах успели разглядеть меня и мою униформу. Свой «маннлихер» я положил так, чтобы его было хорошо видно, на расстоянии нескольких метров от себя, на расчищенное место. Внезапное появление политического офицера было здесь, внизу, скорее редкостью, а немецкий партизан никогда бы не отважился при свете дня так близко подойти к входу в Редут, но я должен был знать наверняка, не отдал ли случаем Бражинский приказ стрелять в меня.
Наверху, на нижних склонах Шрекхорна орудийные стволы уставились прямо в серое небо. Путь в отвесной скале был выдолблен таким образом, что пройти по нему мог только один человек, дорога вела вверх через открытый проход со стороны ручья. Я шаг за шагом поднимался, не без благоговения и даже тихой робости; за все годы моего офицерства я так и не привык к возвышенному состоянию души, которое наступало у меня во время подъема в горы. Вокруг уже не было живых существ, только журчание белой воды слева от меня, бетонные бункеры, где никого, возможно, не было, а надо мной — гнетущая масса горной породы, заснеженной, ужасной, безжизненной.
Здесь, в этом невзрачном каньоне, начинался Редут — швейцарское изобретение века, ядро, питательная почва и квинтэссенция нашего существования. Я подошел к старым железным воротам, наверняка построенным еще в самом начале работ по прокладке тоннелей, заржавевшая заслонка, оказавшаяся на уровне глаз, сдвинулась, и спустя несколько мгновений ворота распахнулись. На меня были направлены дула винтовок красногвардейцев, а затем ко мне приблизилась капральша, прикрываясь удерживаемым перед собой стальным щитом по форме ее тела (я видел точно такой же в Швейцарском Зальцбурге), этой предосторожности мне показалось явно недостаточно, немецкий смертник уже давно мог бы вырвать чеку газовой гранаты — и опасливо, вытянув вперед руку, потребовала мои документы.
Я осторожно передал их, она пробежала глазами по строчкам и печатному оттиску Ной-Бернского Совета и опустила стальной щит на землю. Солдаты в гроте шумно дышали, вытянувшись по струнке, капральша полезла в висевшую наперевес сумку, достала полную горсть какого-то желтого желеобразного вещества и обмазала ею справа спереди мою униформу.
— Что это?
— Опознавательный знак. Сейчас вы уже можете свободно перемещаться. Добро пожаловать в Редут, комиссар.
— Здесь в полутьме его все равно плохо видно, — ухмыльнулся один из солдат, второй прыснул со смеху.
— Солдат Бодмер! — гаркнула капральша. — Подойдите!
— Слушаюсь!
— Сюда, встаньте передо мной! Стойте прямо! — И она ударила его кулаком прямо в лицо. Бодмер упал навзничь. — Десять суток темного ареста!
— Но…
Из его носа сочилась тонкая струйка крови. Другие солдаты не издали ни звука.
— Тридцать суток темного ареста! Извините, комиссар. Это моя вина. Не могу удержать свою бригаду под контролем.
— Что верно, то верно.
— Пожалуйста, составьте на меня рапорт, — сказала она. — Я неблагонадежна.
— Я запишу это и передам в вышестоящий орган.
— Слушаюсь, товарищ.
У меня не было ни малейшего намерения заниматься чем-то подобным. Я оставил ее внизу, а сам начал подниматься по спущенной со скалы металлической лестницы. На втором уровне было уже значительно теплее, стены этой пещеры были усеяны множеством электрических лампочек. Окруженный приятным жужжанием невидимых, скрытых в горной породе моторов, я зашел в большое помещение, потолок которого сходился куполом на высоте, должно быть, метров двадцати пяти и при этом был полностью, до самого дальнего уголка, освещен.