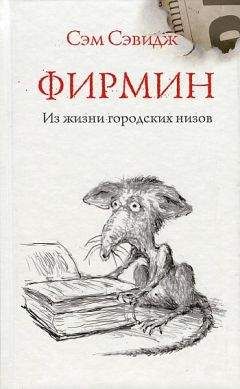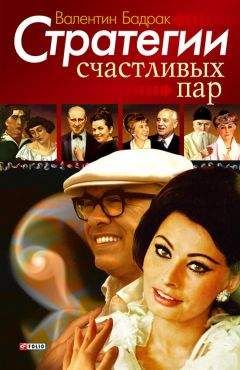В результате всех этих впечатлений я буквально разрывался между «Книгами Пемброка» и «Риальто». Будто два храма боролись за мою душу: мудрецы и архаты с одной стороны, ангелы — с другой. Порой я сдавался на призывы одного, порой удалялся под сень другого. И, уступая обольщениям «Риальто», я нередко там проводил ночь напролет. И мог ловить черты рассвета, не имея притом нужды таскаться по светающим улицам. Среди вечных, заезженных черно-белых лент кроме Чарли Чана и Жене Отри были и вестерны, и гангстерские фильмы и мюзиклы, фильмы, с Жоан Фонтейн, Полетт Годар, Джеймсом Кегни, Эбботом и Костелло, и Фредом Астером. Механик был, между прочим, кажется, неравнодушен к Фреду Астеру, он без конца его крутил, ну и очень скоро сам я тоже влюбился в Фреда. Когда бы ни показывали фильм с его участием, я неизменно оставался. Я твердо верил, что механик — тоже хранитель тайн, как Норман. Два храма, два жреца. Я жаждал его увидеть хоть на миг, но, увы, так и не сподобился этой чести.
Фред Астер стал для меня вдохновляющим примером — его походка, речь, его вкусы. И конечно, я в Джинджер Роджерс влюбился тоже, включил ее в число своих Прелестниц. Сплошь да рядом фильм с ее участием показывали перед самым полуночным апофеозом. В веющих шелках, сжимая вытянутую руку Фреда, мерцающая, явственно невесомая, Джинджер, застыв в arabesk penché,[42] вдруг таяла во мраке ночи, как Эвридика.[43] А я, зажатый шаркающей, кашляющей, ее поглотившей тьмой, воображал, что она пропала навеки. И чувствовал настоящее — невымышленное — горе. И бог знает в какое бы я ударился отчаяние, до чего бы себя довел, если бы вдруг, под жужжание проектора — звук, от которого сердце дрожит сильней, чем от вагнеровского «Полета Валькирий», — вдруг она снова была тут как тут, воскресшая из мертвых, голой взятая на небеса, и там извивалась на ковре. Чудо, чудо. О, как хотелось к ней приблизиться, молитвенно, с розой без стебля в лапах, смиренно сложить цветок в вазочку ее пупка, как жертвоприношение. Но, вероятно, все эти эмоции, все эти желания в своей безмерности при таком моем скромном телосложении мне были не по плечу — и, возвращаясь в свое убогое жилище на потолке книжного магазина, я себя чувствовал совершенно разбитым. Тяжела безответная любовь, но любовь безнадежная может просто доконать.
Я по два дня не ел, ни маковой росинки. Я читал Байрона. Я «Грозовой перевал» читал, я имя свое сменил на Хитклиф.[44] Валялся навзничь. Разглядывал собственные пальцы. А потом снова с утроенной энергией, с головой уходил в работу. Я был Джей Гэтсби.[45] О, как я умел собраться и воспрянуть. Я продолжал свой бизнес. Внешне я был все так же ровен, любезен и непринужден, и кто бы догадался, что под этой маской я скрываю разбитое сердце?
Каждое утро мы с Норманом читали «Бостон глоуб». Прочитывали от корки до корки, включая объявления. Я стал ориентироваться в происходящем. Стал хорошо информированным гражданином, и, когда газета поминала о «широкой общественности», я чувствовал тонкий укол нарциссической гордости. Я учился ориентироваться в пространстве: когда вставал к стеклянному шкафу лицом, нос мой стрелкой целил в Провинстаун, через залив, хвост же, вдоль Роуд 2, метил в Фитчбург. И очень своевременно: прямо позади меня оставались выборы католика в президенты Соединенных Штатов, разоблачение шпионского заговора в России, кровавая бойня в Южной Африке, а впереди согласно «Глоуб» маячило ядерное уничтожение, еще большее укорочение юбок и разливанное море новых фильмов.
И, что непосредственней меня касалось, — я узнавал, как дела у «Красных Носков»[46] и о планах по исчезновению Сколли-сквер. Исчезновения посредством усердного применения бульдозеров. Тяжко было читать про такое, особенно мне. В конце концов, то была моя жизнь, я не знал иной. Кем бы я стал без книжного магазина, без «Риальто»? Куда мне деваться, если их лишусь? Я видел, что Норману тоже нелегко, потому что он все время об этом говорил. Он говорил об этом с высоким плешивеющим Коном Диттером, хозяином «Кондитерской Кона Диттера» с нами рядом, и с плешивеющим толстым Джорджем Ваградяном, у которого было напротив совместное заведение — аптека и магазин занавесей под названием «Пилюли и тюли». Иногда согласно «Глоуб» уничтожение было возможно, иногда весьма вероятно, иногда оно планировалось, надвигалось, иногда было неминуче. В дождливые дни, в отсутствие покупателей, оно, надо думать, особенно грозно нависало, потому что в такие дни три плешивые головы покачивались вокруг Письменного стола под Воздушным Шаром, пили кофе, говорили о том, что должно случиться и когда это случится, и — Бог ты мой, что же делать, когда это случится, — и горевали. Кон был любитель изящного слова, Джордж был любитель добрых сигар, и, пока они, стоя возле стола, беседовали с Норманом, «безмозглые жопы», «хрены безголовые» и «говноеды, лишенные вкуса» Кона Диттера в дыму Джорджевых сигар взмывали под потолок и там мешались с ароматом Парижа и кофе. Эти разговоры, естественно, отнюдь не способствуя спасению округи, обычно оставляли нас с Норманом в ужасном унынии, и по уходе друзей мы с головой погружались в работу, снимали книги с полки, их протирали. То есть это Норман, конечно. Что до меня, я лежал навзничь в постели и работал над своей поэмой «Ода к ночи». Начиналась она так: «Горные вершины спят во мгле ночной».
Округа, которую «Глоуб» иногда называл исторической, но куда чаще «трущобной» и даже «кишащей крысами» (ей-богу!), являлась бастионом, стоящим поперек дороги к прогрессу, и потому мэр и городской совет хотели ее с этой дороги убрать и лучше всего для этой цели, оказывается, было сровнять ее с землей и закатать в асфальт. «Глоуб» поместил даже несколько картинок, как дважды два доказывавших, что, когда дело будет сделано, Бостон засияет, как Майами над серыми волнами порта. Сколли-сквер предполагалось заменить гигантским плоским куском бетона, а сверху, людям на устрашение, поставить форты правительственных зданий. Норман смотрел на эти картинки в газете и только головой качал. А над ним, на Воздушном Шаре, я тоже качал головой.
Разрушить такой кус города — работенка не из легких. Здания были старые и, пустив глубокие корни, упрямо противились искоренению. И стали мэр с городским советом приискивать подходящего человека, такого, который бы разбирался в специфике применения очень тяжелой техники к очень старым домам на очень узких улицах, и нашли они Эдварда Лога. У него было прозвище Бомбардир, потому что именно такую он исполнял работу во время Второй мировой войны. На Б-24. Так что он был не понаслышке знаком с самым большим в истории проектом городской реконструкции. Он послал мэру и городскому совету фотографии Штутгарта и Дрездена[47] и заявил: «Я могу предъявить Сколли-сквер в таком же точно виде». Должность он получил. В газете поместили его огромное фото: стоит рядом с мэром. Держатся за ручки, но друг на друга не глядят — нежно улыбаются в объектив. Лог в самый раз годился для такого катаклизма. Увидав эту фотографию, я одел его в форму вермахта, не удержался, а потом уже я его произвел в генералы. А жизнь продолжалась. Одним глазом мы присматривали за бизнесом, другой не спускали с генерала Лога, и дух обреченности сгущался вокруг как ядовитый туман.