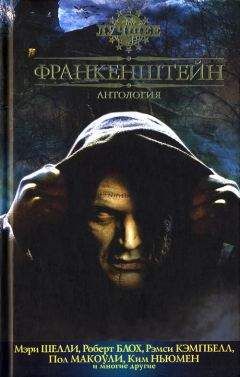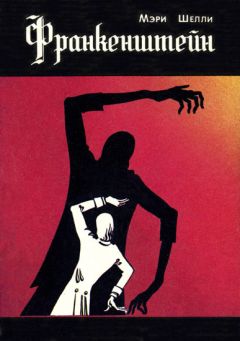Как-то вечером я сидел в своем кабинете, курил сигару, потягивал из стакана лимонный сок и пытался свести концы с концами в ежемесячном финансовом отчете. Было душно, и ленивые взмахи опахала не могли растормошить неподвижный горячий воздух. У меня духу не хватало требовать большего старания от паренька, которому платили две-три анны[62] за этот нехитрый труд. Вполне вероятно, он так же был изнурен жарой, как и я сам.
Я встал, чтобы потянуться и размять затекшие плечи и шею, когда вдруг краем глаза заметил какое-то движение. Я повернулся — и увидел перед собой Адитью. Понятия не имею, как ему удалось так бесшумно войти в комнату. Ладони риши были сложены в намасте, глаза закрыты, на губах играла едва приметная улыбка. В тот самый миг, когда я уже собирался несколько раздраженным тоном поздороваться с ним, он вдруг исчез, а я обнаружил, что стою, уставясь в темный угол.
«Иисусе!»
Струйки пота, стекавшие по моей коже, тотчас заледенели, и я метнулся через всю комнату к застекленному шкафчику со спиртным. И тут последовало еще одно потрясение. В тот самый миг, когда я трясущимися пальцами пытался откупорить бутылку с виски, снаружи, с другой стороны веранды, донеслось едва различимое царапанье. Не задумавшись ни на миг, я выхватил хранившийся в ящике стола пистолет системы «Веблей» и решительно распахнул ставни.
И увидел перед собой перепуганное лицо Ясима, пожилого хариджана, которого наняли ухаживать за садиком при моем бунгало. Я шумно втянул воздух, испытав безмерное облегчение.
— Ясим! Что ты здесь делаешь? С какой стати крадешься в темноте, словно вор? Будто не знаешь, что, если захочешь поговорить со мной, тебе следует постучаться в дверь! Что тебе нужно, старина?
Мой ночной гость отчаянно помотал головой и прижал палец к губам:
— Роуэн-сагиб, мне нельзя было сюда приходить, это очень, очень опасно. Я пришел рассказать вам, что в округе неспокойно. Говорят, что риши Адитья при смерти. Может быть, он сейчас уже и помер.
Не могу сказать, что меня сильно огорчило это известие. Имя святого подвижника тотчас вызвало в моей памяти ужасную сцену на опушке леса, и первой моей мыслью было, что чем скорее он умрет, тем лучше.
Затем я вспомнил слова риши: «Ты мог бы оказать мне одну услугу… узнаешь, когда придет время». Что же я видел сейчас в кабинете — явление духа, видение, галлюцинацию? Возможно, это была некая разновидность мысленного воздействия? Может быть, таким образом риши требовал от меня той самой услуги?
— Значит, я должен поехать в Катарачи, — сказал я вслух. — Адитья-сагиб наверняка хотел бы, чтобы я присутствовал на погребальном обряде как представитель британской власти.
В глазах садовника мелькнул нешуточный испуг.
— Сагиб, если меня кто-то спросит, я стану отрицать, что рассказал тебе об этом, — так велика опасность. Знай, утверждают и то, что жена святого подвижника хочет совершить сати.
Сати! При этом слове я похолодел. Я знал, что оно означает, — да и кому из тех, кто родился и вырос в Индии, оно не было знакомо? Кто из начитанных людей или бывалых путешественников не содрогался при мысли об этом чудовищном, чуждом европейскому духу обряде? Кто из окружных чиновников британской администрации не молил Бога о том, чтобы никогда не столкнуться с ним?
Сати. Слово на санскрите. Буквальное его значение — «добродетельная женщина». На практике в индуизме оно означает ритуальное самосожжение, которое совершает вдова на погребальном костре своего мужа, поскольку считается, что добродетельной женщине незачем жить после смерти супруга. И это далеко не всегда самосожжение — известны случаи, когда вдову против ее воли связывали и бросали в огонь.
Этот обычай был объявлен вне закона лет шестьдесят или семьдесят тому назад, однако администрация негласно смирялась с тем, что его продолжали практиковать в отдаленных местностях. Теперь же сати должен был совершиться здесь, в Катарачи, и мой долг состоял в том, чтобы предотвратить его.
Рано поутру я поднялся прежде всех и незаметно выскользнул из бунгало. Оседлав коня, я отвел его как можно дальше от дома и лишь тогда вскочил на него и двинулся в путь.
Когда я добрался до Катарачи, деревня уже просыпалась. Над разожженными с утра пораньше очагами поднимались в воздух тонкие струйки дыма, пахло свежевыпеченными лепешками наан[63] и закипающим чаем. Слышно было, как крестьяне оживленно переговариваются с домочадцами и соседями, но, когда я въехал на площадь, все разговоры стихли. Я увидел, что какой-то мальчишка со всех ног припустил к дому Гокула — и вот уже заминдар в сопровождении небольшой свиты торопливо шагал мне навстречу.
— Роуэн-сагиб! — с тревогой воскликнул он. — Что ты делаешь здесь? И почему явился в такую рань?
— Разве Катарачи не входит в мой округ? — надменно осведомился я. — Уж верно, я имею право появляться здесь, когда захочу.
Гокул опустил глаза и промямлил:
— Да, сагиб.
— Как бы то ни было, я узнал, что риши нездоровится, и прибыл его навестить.
Гокул испустил тяжкий вздох:
— В таком случае я сожалею, что Роуэн-сагиб проделал столь долгий путь понапрасну, потому что святой подвижник умер несколько часов назад. Погребение будет совершено завтра на рассвете, и сейчас, сагиб, тебе нет нужды задерживаться здесь.
— Я весьма опечален твоими словами, — солгал я. — Что ж, тогда мне, безусловно, надлежит выразить свои соболезнования вдове риши.
— Это против всех приличий.
Я смерил Гокула жестким взглядом.
— С чего бы это? — процедил я. — В моей стране выразить сочувствие безутешной вдове — долг всякого воспитанного человека. Я представляю здесь ее величество королеву Британии и намерен высказать соболезнования от ее имени. Неужели это против приличий, Гокул-сагиб?
Заминдар в отчаянии оглянулся на своих дружков, но, похоже, никто из них не спешил прийти к нему на помощь.
— В любом случае, — продолжал я, совсем немного кривя душой, — риши хотел, чтобы я оказал ему услугу, позаботившись о его вдове. Он сам сказал мне об этом во время нашей встречи. Не хочешь же ты пойти против воли Адитьи?
Заминдар нехотя сдался и проводил меня к хижине риши. Чандира стояла на пороге хижины, словно поджидала меня. На ней по-прежнему была бурка. Когда я приблизился, женщина совершила намасте и проговорила:
— Входи, Роуэн-сагиб, добро пожаловать под наш кров.
Гокул, похоже, намеревался торчать на пороге, но я одарил его суровым взглядом, и он с явной неохотой убрался восвояси. Убедившись, что он действительно ушел, я принял любезное приглашение Чандиры.