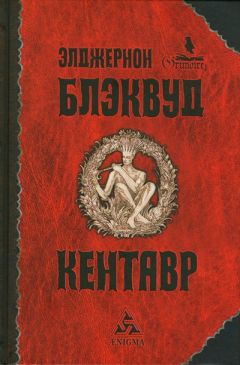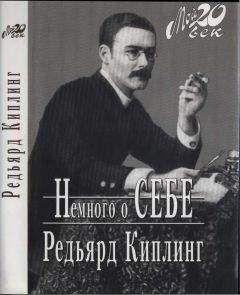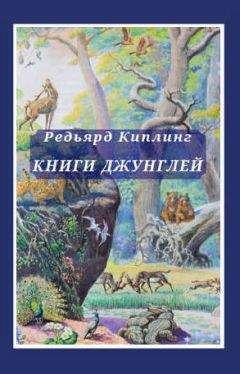Они бродили по горам еще около двух недель, переживая различные приключения, которые О’Мэлли надлежащим образом излагал в записках путешественника. Но все они касаются мира внешнего и в данном повествовании не особенно уместны. К середине июля Теренс с проводником вновь вернулись в цивилизованные места. Там, в Микаэлеве, он попрощался с Рустемом и сел на поезд.
Именно возвращение в обычные условия современной жизни всколыхнуло залегающие глубже слои сознания и побудило их воспроизвести магический запас воспоминаний. Ибо, вновь погрузившись в мелочные дрязги века механизмов, роскошных вещей и поверхностных ухищрений, он испытал острую боль, почти невыносимое чувство потери. Вновь вернулись неудовлетворенные стремления. Причем особенно ранили не сами предметы, которым в мире уделялось столь много внимания, а тот подход, согласно которому одни занятия и вещи почитались важными, а другие почти единодушно, за редким исключением, рассматривались как второстепенные либо игнорировались вовсе. Для него же самого их ценность была прямо противоположной.
К нему вновь вернулось потрясающее видение из самых глубин: оно ослепляло красотой, пело в ушах, полностью завладело сердцем и разумом. Мир усталых, не знающих покоя людей должен был желать причаститься его. Перед внутренним взором стоял образ простой жизни на лоне природы, способный излечить серьезный недуг века, беспокойно ищущего себя, лекарства, которое могло исцелить весь мир. Возврат к природе был первым шагом на пути к великому желанному избавлению. А сильнее всего Теренс желал поведать об этом Генриху Шталю.
Слышать его речи, с которыми он более ни к кому, кроме меня, возможно, не обращался, было поистине душераздирающе, поскольку в Теренсе О’Мэлли я видел воплощение тщетности усилий всех мечтателей. Видение его было столь тонким, искренним и благородным, невозможность же во всей полноте передать его красоту вызывала лишь боль, а попытки предпринять практические действия выглядели до смешного нелепыми. Как ни крути, ему оказалось совершенно не присуще то сочетание видения и действия, что именуется гениальным и порой способно потрясти мир. Его разум не отличался конструктивностью, он ни в коей мере не был интеллектуалом; зрел — но лишь сердцем, не в состоянии воплотить то, что видел. Планировать строительство новой утопии было для него так же непосильно, как и полностью передать словами то великолепие, свидетелем которого он был. Прежде чем возвести хотя бы подобие фундамента, он бы сломился под грузом кирпичей и прочих материалов.
Поначалу, в дни ожидания парохода в Батуме, он держался до странного молчаливо, даже мысленно храня тишину. Теренс не находил в себе сил выразить то, что ему открылось. Бумага также не принимала повествование. Все это время невдалеке парило величественное и вместе с тем простое, как солнечный луч или струи дождя, крылатое создание, и душа находила облегчение, гордо выражая себя на ином, божественном уровне, но передать смысл пережитого полностью в словах вряд ли когда окажется возможным, и он знал это, хотя, запинаясь, и пытался: сначала письменно в записных книжках, потом устно рассказывая мне и, отчасти, доктору Шталю. Но поначалу все это не находило никакого выражения и пребывало в глубоком молчании.
Днем он бродил по улицам города, глядя на мир новыми глазами. На русском пароходе он доплыл до Поти и там, с рюкзаком, вверх по ущелью Чурох за Бурчку, не обращая никакого внимания на турецких цыган и стоянки диких племен по берегам. Никакого чувства опасности он не испытывал, да и не мог испытывать: весь мир был для него родней. И это ощущение оберегало его. Пистолет с патронами остался в позабытой в гостинице сумке.
В его душе боль мешалась с восторгом. Боль была ему привычна, но бесконечный, сияющий восторг прежде был неведом. Теперь кошмар современной дешевой жизни нашел объяснение — как он и чувствовал, так быть не должно: суетная, лихорадочная, внешняя деятельность лишь проявление глубокого недуга, странного непонимания и разлада с Землей. Человечество отчего-то поссорилось с нею, востребовав независимости, которая не может долго продолжаться. Ведь для нее века отчуждения — лишь миг, возможно два, в той неспешной жизни, что укладывает миллионы лет неширокими меловыми руслами. Настанет день, и блудные дети вернутся. Ведь Земля никогда не прерывала свой зов. Возможно, уже кто-то в сновидениях двинулся ей навстречу. Даже он сам слыхал о некоторых движениях, робких попытках пойти навстречу Земле. Значит, эти немногие уловили немолчный ласковый шепот, облетающий мир.
Ибо ее голос — последний, но самый мощный оплот, очарование ее зова никогда не иссякнет до конца; люди лишь на время покидали ее материнские объятья, вкушали от древа познания, плоды которого приносили им обманчивые, безумные образы самоопьянения; отпадали и погружались в боль одиночества и смерти. Это породило потерю направления и общего контроля, вавилонское смешение неуклюже слепленных языков, отчего все обратились друг против друга. Лишенные взаимосвязи и подчинения искусственные центры с катастрофическими последствиями захватили управление. Каждый сражался сам за себя против соседей. Даже религии жаждали крови и бились друг с другом. Часть поклоняющихся могла проклясть все прочее человечество, ни на секунду не прекращая славить рай для себя.
И все это время она с любовью и терпением улыбалась, позволяя им постичь урок; она смотрела и ждала, пока люди, как глупые дети, тратили уйму напрасных усилий, стремясь завладеть преходящими вещами, которые не способны принести им ни грана настоящего удовлетворения. Разрешала людям наживать миллионы на своих самых светлых мыслях, добывать золото и серебро из своих жил, даже не препятствуя переработке в орудия разрушения, поскольку знала: каждая потерянная жизнь возвращается к ней в объятия, оплакивая собственную глупость, но с усвоенным уроком; за слезами и возней своих чад она наблюдала из дверей детской, прекрасно зная, что дети проголодаются и вернутся, когда им потребуется пища; ожидая, она слышала обращенные к ней молитвы и отвечала на них любовью и прощением, а тем же немногим, кто осознавал свою глупость и несносность по эту сторону смерти, она в полной мере даровала мир, радость и красоту.
Им не удавалось нанести себе непоправимый вред, поскольку зло не задерживалось возле нее, питаемое невежеством тех, кто дальше других забрел в темный лабиринт мелкого эго. Их запутал именно тот самый интеллект, которым они так гордились.
Порой же, то в одном, то в другом веке, она посылала весть об избавлении столь громогласно, что отрицать этот зов было невозможно. Устами поэта, священника или ребенка она звала своих чад домой. И призыв звучал, омывая волшебными звуками пустоши безнадежной разобщенности. Кто-то слышал его, кто-то возвращался, кто-то поражался и проникался воодушевлением, часть людей полагала весть слишком простой, чтобы быть правдой, и начинали искать более сложных путей, удивляясь при этом силе порождаемого стремления, от которого слезы наворачивались на глаза; но большинство, не желая признаться, что в сердце своем ощущает тайное блаженство, стремилось убедить себя в пристрастии к бесконечной борьбе и лихорадочной спешке.