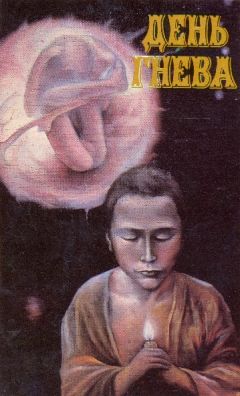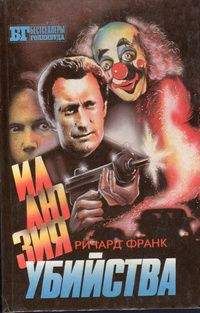Эйфория, вызванная внезапным бурным ростом фантастики, невольно заставляет обращать основное внимание на молодые творческие фигуры, нетерпеливо возникающие перед глазами. Но настоящее искусство никогда не бывает сборищем Иванов, не помнящих родства. Никакие новые достижения не отменяют успехов, завоеванных в прошлом, но только становятся в их ряд. Шекспир не отменил Еврипида, Пушкин не опроверг Шекспира и Гете, Маяковский с Пастернаком не затенили Пушкина и Лермонтова. Новые успехи молодой советской фантастики основываются на достижениях тех, кто в труднейших условиях несправедливой цензуры и унифицированной идеологии создавал фундамент того, что ныне вправе называться особой советской школой фантастической литературы.
Видным представителем таких предшественников и фундаторов современного бурного развития советской фантастической литературы является замечательный, до сих пор не оцененный в полную меру своих заслуг, писатель Север Феликсович Гансовский.
В XX столетии в нашей стране мало кто из старшего поколения может похвастаться безмятежной биографией. Но того конгломерата бед и лишений, какие выпали на долю Севера Гансовского, судьба удостаивает только особо отмеченных. В написанной им, сдержанной по тону, автобиографии он отмечает только основные события, почти не комментируя ни чувств, ни обстоятельств места и времени — я постараюсь кое-что восполнить, черпая из того, что он сам мне рассказывал.
«Я, Гансовский Север Феликсович, — пишет он, — родился 15 декабря 1918 года в городе Киеве. Мать, Элла-Иоганна Ивановна Мей, была дочерью зажиточной латышской крестьянки, училась в гимназии в Либаве (Лиепая). С отцом, Феликсом Павловичем Гансовским, наполовину русским, наполовину поляком, она встретилась в Петрограде в 17-м году. Его я не помню, он умер в 20-м году. В этом же году мать со мной и моей сестрой перебралась в Петроград к родным. Работала кондуктором, вагоновожатым — мы с сестрой ездили вместе с ней в трамвае маршрута № 10. Он ходил в Ржевку, и там в те времена действительно росла рожь. Потом мать окончила курсы счетоводов, после них — курсы бухгалтеров, вышла замуж, и мы, дети, стали жить у тетки с бабушкой. Мать присылала из разных городов деньги, в 1938 году умерла».
Надо пояснить сообщение о том, что детей — десятилетнего мальчишку и его сестру — забрала бабушка, а мать сперва посылала деньги из разных городов, а потом умерла. Север Феликсович рассказывал мне, что его мать не просто уезжала из Ленинграда в другие города, а была выслана во время великих ленинградских репрессий середины тридцатых годов, потом арестована, а в 1938 году расстреляна в тюрьме. Я спрашивал, почему он умолчал о такой трагедии, он отвечал, что ему страшно даже вспоминать, что его мать, далекую от политических схваток тех лет, так жестоко покарали только за то, что она представлялась классово чуждой по происхождению, к тому же женой репрессированного второго мужа. Он бледнел и сжимался, вспоминая через сорок лет ужасную судьбу своей матери, — можно понять, какой мучительный, какой неизгладимый отпечаток положила эта трагедия на душу впечатлительного мальчика.
«Учился я в 20-й средней школе Куйбышевского района, — продолжает Гансовский автобиографию. — В 1933 году с грехом пополам окончил семь классов. Поехал в Мурманск — там были знакомые, работал матросом, электромонтером, грузчиком. В 1937 году решил поступить в Морской техникум в Ленинграде, но из-за нерусской фамилии, вероятно, не прошел мандатную комиссию. С горя отдал документы в Ленинградский электротехнический техникум на Васильевском. Кончил отличником два курса, понял, что не люблю эту специальность. Ушел из техникума, работал опять грузчиком, монтером и ходил в вечернюю школу для взрослых. В армию в положенный срок меня не взяли — думаю, что снова из-за фамилии. В 1940 году поступил в ЛГУ на филфак. Проучился год, началась война. Тут уж на фамилию не обращали внимания, просто пришел во двор университета, где формировалось народное ополчение, и отправился на фронт».
И опять в краткой сводке событий самостоятельной жизни юноши Гансовского нет того, что наполняло эту жизнь драматическими переживаниями. Пятнадцатилетний мальчик не просто уехал в Мурманск искать работы, а бежал после высылки матери из охваченного репрессиями Ленинграда, чтобы самому не угодить в ссылку, а в Мурманске попутно добыть несколько лет рабочего стажа, гарантирующего иной социальный статус. Современному юноше непонятны такие термины, как лишенец, социально чуждый элемент, сын репрессированного, но в годы юности Гансовского они определяли все возможности жизни. И накопив три года рабочего стажа, то есть перейдя в иное социальное положение, молодой Гансовский с радужными надеждами возвращается в Ленинград. Но тут встает новое — и неожиданное — препятствие — неблагонадежная фамилия. В устных рассказах Севера Феликсовича отчетливо звучало то, что лишь упомянуто в написанной автобиографии, — овладевшее им тогда отчаяние, чувство обреченности — всегда оставаться человеком не только второго сорта, но хуже того — вообще нежеланной для общества человеческой категорией. И вступление в ополчение, после отказа призыва в армию, Гансовский воспринимает с облегчением, — теперь он снова как все, допущенные к вольному существованию люди.
Война была общей трагедией всего советского народа, частной трагедией каждого фронтовика. Север Гансовский внес в нее и свои особенности. Он пишет: «Часть нашу — 169-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон — разбили скоро. Попал в новую, такую же недолговечную. Осенью 41-го года на подступах к Ленинграду отступали, держались, снова отступали — незначительная контузия, легкое ранение в счет не шли. Присоединился к морской пехоте, воевал под Ораниенбаумом, возле нового Петергофа. В конце августа был ранен посерьезней. Лежал в госпитале в университете, в здании исторического факультета. Оттуда, уже „законно“, в составе 4-й морской бригады КБФ пошагал на Невскую Дубровку. Там было чрезвычайное происшествие. Приданная бригаде рота, сформированная из уголовников, во время атаки пошла сдаваться в плен. Мы стреляли по ним. Прибыла потом комиссия, построила тех, кто после боя остался в строю, стали на выдирку беседовать. Обнаружили мою польскую фамилию, имя, сказали, что должен ехать в Киров, где формировалась тогда польская армия. Мне неловко стало перед товарищами. Киров-то из Невской Дубровки выглядел санаторием — попросил остаться. Тогда было приказано в краснофлотской книжке переделать национальность с поляка на русского — им и являюсь. Через несколько дней в новой атаке был тяжело ранен. Блокадная зима 1942 года прошла в госпитале. В марте вывезли в Тюмень, там зимой 42-го демобилизовали по инвалидности. Так кончилась для меня война — отвоевал ее в пехоте и морских частях рядовым».