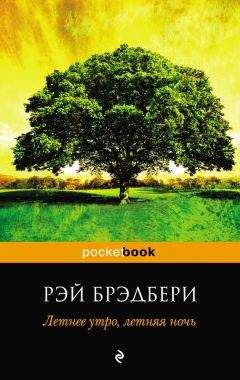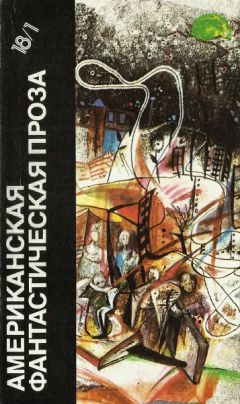— Я помогу, — вызвался он.
— Нет-нет, — поспешно возразила она. — Иди домой, а дежурить больше не оставайся. Я поручу это Хелен Стивенс.
Боб вышел из класса. Оглянувшись с порога, он в последний раз увидел Энн Тейлор: она стояла у доски и медленными, плавными движениями — вверх-вниз, вверх-вниз — стирала меловые разводы.
Через неделю он уехал из города на долгих шестнадцать лет. Живя всего в пятидесяти милях, вернулся он уже тридцатилетним, женатым человеком: как-то по весне, проездом в Чикаго, они с женой сделали остановку в городке Грин-Блафф.
Боб надумал пройтись в одиночку и в конце концов решился навести справки о мисс Энн Тейлор. Сначала никто ее даже не вспомнил, а потом кого-то из горожан осенило:
— Ах да, была такая учительница, само очарование. Умерла вскоре после твоего отъезда.
— Замуж-то она вышла?
— Да нет, как-то не сложилось.
Во второй половине дня, побродив по кладбищу, он отыскал могильный камень с высеченной надписью: «Энн Тейлор, 1910–1936». Двадцать шесть лет, подумал он. А ведь я теперь на четыре года старше вас, мисс Тейлор.
Ближе к вечеру горожане увидели, что встречать Боба Маркхэма вышла его жена, и все головы поворачивались ей вслед, потому что на лице у нее играли солнечные зайчики. Была она как нежный персик среди зимних снегов, как глоток холодного молока к завтраку в душное летнее утро. А день выдался такой, когда мир обрел равновесие, подобно кленовому листу, которому не дают упасть благодатные ветра: один из тех редкостных дней, которые, по общему мнению, следовало бы назвать в честь жены Боба Маркхэма.
В июне, в тёмный час ночной
Он ждал в летней ночи долго-долго, пока мрак не прильнул к теплой земле, пока в небе не зашевелились ленивые звезды. Положив руки на подлокотники моррисовского кресла, он сидел в полной темноте. До него доносился бой городских часов: девять, десять, одиннадцать, а потом наконец и двенадцать. В кухонное окно хлынул темной рекой свежий ветер, налетел на него, как на мрачный утес, а он только молча наблюдал за входной дверью — молча наблюдал.
В июне, в темный час ночной…
Стихи прохладной ночи, созданные Эдгаром Алланом По, скользнули у него в памяти, как воды затененного ручья.
Спит Леди! Пусть спокойно спит,
Пусть небо спящую хранит!
И сновиденья вечно длит…[3]
Он прошел лабиринтом черных коридоров и шагнул в сад, кожей ощущая город, затихший в постели, во сне, в ночи. На траве поблескивала змейка садового шланга, свернутого в упругое кольцо. Он включил воду. Стоя в одиночестве и поливая цветочную клумбу, он воображал, будто дирижирует оркестром, который могут услышать лишь бродячие собаки, что слоняются впотьмах и скалятся зловещими белозубыми улыбками. Он осторожно перебрался на рыхлую землю под окном и, увязая обеими ногами под тяжестью своего долговязого тела, оставил четкие, глубокие следы. А после он вернулся в дом и двинулся вслепую вдоль невидимого коридора, роняя на пол комья грязи.
Сквозь окно веранды смутно просматривались очертания заполненного на треть стакана с лимонадом, оставленного ею на перилах крыльца. Его слегка передернуло.
Теперь он ощущал, как она возвращается домой. Летней ночью спешит издалека, через весь город. Он закрыл глаза, напрягся, чтобы уточнить место, и определил, каким маршрутом она передвигается в темноте: ему было видно, где она ступила на мостовую и перешла улицу, в какую сторону двинулась по тротуару, стуча каблучками — тук-тук, тук-тук — под июньскими вязами и последней сиренью, пока еще с кем-то из подружек. В пустынном ночном безлюдье он вжился в ее облик. Нащупал руками сумочку. Поежился, когда длинные волосы защекотали шею, а губы облепил слой помады. Это он, не двигаясь с места, шел, шел, шел домой в полночной тьме.
— Счастливо!
Ему слышались и не слышались голоса, а она подходила все ближе, вот она уже в какой-то миле от него, в какой-то тысяче ярдов, спускается, как хрупкий белый фонарик по невидимой проволоке, в овраг, где стрекочут сверчки, квакают лягушки, журчит вода. Он ощущал шершавые деревянные ступеньки, ведущие вниз, как будто вернулся в детство и сам побежал к ручью, не боясь занозить пятки на досках, согретых теплой пылью ушедшего дня…
Он вытянул перед собой руки. Большие пальцы соприкоснулись, а за ними и указательные соединились в воздухе, образовали круг пустоты. Тогда он начал очень медленно сжимать кольцо, все крепче и крепче, приоткрыв рот, закрыв глаза.
Потом опустил подрагивающие руки на подлокотники кресла. Глаза открывать не стал.
Как-то ночью — дело было давным-давно — он забрался по пожарной лестнице на крышу здания суда, чтобы с башни разглядеть этот серебристый город, лунный город, летний город. И в неосвещенных домах ему открылись два начала: человек и сон. Две стихии, соединившиеся в постели, выдыхали в неподвижный воздух изнеможение и страх, а потом вбирали их снова, до тех пор пока одна из стихий не очищалась, пока не изгонялись раз и навсегда, задолго до рассвета, все неудачи, отвращения и страхи минувшего дня.
В тот давний час его заворожил ночной город, и он почувствовал себя всемогущим волшебником, который управляет судьбами, как марионетками, дергая за паутинки ниток. С вершины башни он за пять миль угадывал малейший трепет листвы в лунном свете, чуял угасание последнего огонька, словно мерцающего сквозь прорези в оранжевой тыкве, заготовленной на Хеллоуин. Тогда город не мог укрыться от его взгляда, не мог пошевелиться и даже вздрогнуть без его ведома.
Точь-в-точь как сейчас. Он сам превратился в башню с часами, которые размеренно бухали и возвещали время могучим бронзовым боем, не спуская глаз с города, где в меловом лунном свете, подгоняемая порывами ветра, страха и самоуверенности, возвращалась к себе домой девушка: вброд через каменно-асфальтовые русла улиц, мимо свежеподстриженных лужаек, дальше бегом, ниже, ниже в овраг по деревянным ступенькам, а потом вверх, вверх по склону, по склону!
Он услышал ее шаги задолго до того, как они застучали рядом. Услышал ее прерывистое дыхание еще до того, как оно приблизилось. Его взгляд опять выхватил оставленный на перилах стакан. А затем послышались всамделишные звуки — настоящий бег и шумные вздохи, неотвязным эхом отдающиеся в ночи. Он выпрямился. Каблучки в панике простучали по мостовой, по тротуару. Снаружи раздалось бормотание, на ступенях крыльца произошла неловкая заминка, в замочной скважине повернулся ключ, и громкий шепот стал молить: «О Господи! О Господи, помоги!» Шепот! Шепот! Девушка ворвалась в дом, хлопнула дверью и, не умолкая, бросилась в сторону темной комнаты.