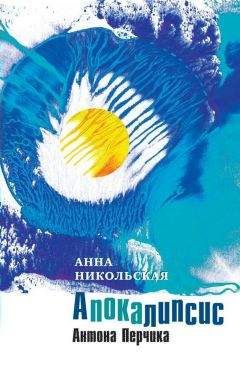Он затянулся жадно, как в последний раз, потом сказал:
— Сонь, выйди, пожалуйста. Мы поговорим.
— Я вам что, маленькая? — она фыркнула. Глянула на меня сердито. Я-то тут, интересно, при чем? — Говорите так. Я никуда не пойду.
Колокольцев кашлянул.
— Три дня назад племянник мой пришел из поселка. С Октябрьского. Там у них выживших не осталось совсем. Николай один — думал, у нас лучше. Куда там. Он потом в город подался. Когда эпидемия началась, поселковые ушли в лес. Укрывались в землянках, ждали эвакуаторов. Военные им сказали, что всех заберут — и больных, и здоровых. А там у них кладбище неподалеку.
— Черницкое? — перебила Соня. — У меня там бабушка.
— На четвертые сутки дождь пошел. Лило весь день — нас-то обошло стороной, по проселочной дороге. Слава Богу. После этого они встали. Николай говорит, если бы своими глазами не увидел — не поверил бы. Прямо из могил лезли. И те, кого недавно схоронили, и давнишние. Кладбище-то старое, там еще с девятнадцатого века остались захоронения.
— Подождите, подождите. — Я попытался сглотнуть, но чуть не сломал себе шею. — Я правильно вас понял: мертвые из могил вставали, что ли?
Это было как в анекдоте. Или в детской страшилке, которые в ходу у любителей черного юмора. Помню, мы такие в лагере на ночь рассказывали, чтобы крепче спалось.
— Все правильно ты понял. — Колокольцев смотрел не на меня, а на Соню, следил за ее реакцией. Но она нормально сидела, ждала продолжения.
— В общем, некроморфы эти — Николай так их называл, некроморфами, — они вроде зараженных. Вирус тот же. Только эти двигаются быстрее — и по стенам могут, и по потолку. И солнечного света совсем не боятся. Николай сказал, на его глазах один на дерево залез. Сидел вниз головой, как летучая мышь. Только я думал, байки. Мало ли что народ придумает с перепугу. Самому в последнее время мерещится всякое. Но если вы говорите, что в госпитале… — тут Колокольцев замолчал.
Я ждал, когда он продолжит. Ждал и слушал, как в груди ухает сердце. У меня живот прямо в узел скрутило — думал, вот-вот вывернет наружу. Просто я вдруг понял, что те, кого мы встретили на дороге, были не просто зараженные, пускай и умершие уже люди. Это были те, кто побывал по ту сторону. Понимаете? Кого похоронили когда-то. Положили в гроб, зарыли в землю и похоронили. На веки вечные. А они вылезли потом из могилы и пошли. Но это же абсурд, чертовщина какая-то. Как они оттуда вылезти-то смогли?
— Я одного понять не могу: как они у нас оказались… — сказал Колокольцев. — И тем более, вы говорите, в госпитале.
Мы встретились глазами. Он смотрел на меня долго, типа испытывал. Проверял на вшивость. Что ему от меня надо?
— Пора выбираться отсюда, — наконец сказал он. — Но сначала нам твоих родителей нужно найти.
* * *
Про «Стену плача» мне рассказала Соня. Ее так в селе окрестили — Стеной плача, вроде той, которая в Иерусалиме. Только тут никакой связи нет, я был в Израиле с родителями, знаю. И вообще, это была никакая не стена — так, забор с несколькими десятками, нет — сотнями объявлений и фоток. Куча лиц — дети, женщины, мужчины, старики. Некоторые даже кошек разыскивали, во народ дает. Только дядь Семен никого не разыскивал, даже жену не искал. Она пропала четырнадцатого, он сказал. Вышла из дома, буквально на крыльцо, на минутку — только шаль накинула. Ей показалось, кто-то ее зовет. Думала, Соня или Люба — это Сонина мать. Вышла, и нет ее, и нет. Минут десять прошло, только тогда дядь Семен хватился. Ставни приоткрыл, выглянул во двор, но ее там уже не было. Он всю ночь ее искал. Соня говорит, ее мама точно так же пропала, среди бела дня — ни следов, ничего. Она тоже слышала голос, точно кто-то ее зовет по имени. Несколько раз слышала.
Стена появилась на третий день после взрывов. Когда началась вся эта суматоха с эвакуацией. Времени было мало, люди просто не успевали сообщать родственникам, когда и куда их увозят. Центральная карантинная зона находилась в Москве, но автобусы (в первые дни людей вывозили по шоссе) уходили и в Ярославль, и в Псков. Сотовая связь, понятное дело, не работала. Сразу рухнула, еще в первый день. Информация поступала по радио и центральному телеканалу — он один вещал на тот момент. Но все равно этого было мало. Люди терялись, дети уезжали без родителей — их вывозили в первую очередь. Те, кто оставался, ничего не знали о судьбе своих. Так стихийно выросла «стена плача». Листы, вырванные из ученических тетрадей, фотографии, рисунки, открытки. Послания к родным, мольбы о помощи, призывы к волонтерам, сводки последних новостей. Я читал неровные, расплывшиеся строчки: «Разыскивается Фрезин Петр Борисович, 1955 года рождения… Пропала без вести Варшавина Ольга Вячеславовна… Помогите найти Уткина Александра Гавриловича… Прошу о помощи в поисках… Вниманию всех, чьи родственники были эвакуированы 7-го мая… Списки больных… Пострадали при тушении пожара… Светлая память погибшим… Последняя эвакуация проводится…».
Цветов почему-то не было. Я вообще нигде в Николаеве не видел цветов, ни диких, ни садовых. Тюльпанов там каких-нибудь. Даже одуванчиков. Не выращивают их тут. Зато были свечи. Много сгоревших свечей. Огарков. И еще детские игрушки.
Я посмотрел на Соню. Стоит в обнимку со своим зеленым уродом, читает. В который по счету раз? Последнее объявление повесили сюда шесть дней назад, дядь Семен сказал. Что она пытается отыскать?
— Что-нибудь есть про маму? — спросил я. Сам не знаю зачем.
Она покачала головой.
— Я вчера утром тут была. И позавчера.
Я кашлянул.
— Зато здесь про тебя.
Я решил, что ослышался.
— Я теперь вспомнила. Еще вчера, когда в столовой тебя увидела, подумала, что лицо вроде бы знакомое. Только не могла понять, где я тебя раньше видела. А теперь вспомнила. Смотри. — Соня оторвала от забора плотный коричневый лист — какую-то листовку. Она была наклеена прямо поверх других объявлений, хотя вокруг еще оставалось свободное место.
Я увидел свою фотку. Вернее, нашу семейную — мамик, отец и мы с Игорьком. На фоне новогодней елки. Мама всегда носила эту фотографию с собой в портмоне. Фотка была испачкана чем-то рыжим, клеем, наверное. Я не мог разобрать маминого лица. Только наши три морды: две улыбающиеся и моя, постная. Это мы два года назад фотографировались. Мы тот новый год на лыжной базе с Егором хотели отмечать, но отец сказал, что это наш последний семейный праздник. Вот исполнится шестнадцать, и буду делать что хочу. Я тогда решил им этот семейный праздник испортить — пива напился и матерные частушки орал за столом. Просто решил постебаться, но им не смешно было. Особенно маме. Я застал ее на кухне, уже под утро. Пришел за «Наполеоном» к холодильнику — а она сидит за столом, в этом желтом платье, и плачет. Я решил, что из-за меня. Прости, говорю, дурака такого, я больше не буду. А сам все пялюсь на платье. Но она ответила, что это не из-за меня. Она совсем не из-за меня тогда плакала, а из-за отца. Он сказал, что уходит. В смысле из семьи, от нас. Перед самым Новым годом, за бокалом шампанского, можно сказать, под бой курантов. Выкроил время, пока я ходил в туалет. У него там появился вроде кто-то, какой-то титястый монстр, наверное. Но потом он не ушел все-таки, не знаю почему. Он остался с нами. А я в ту ночь — матерные частушки, сволочь… Вот вы когда-нибудь жалели о содеянном? О сказанном?