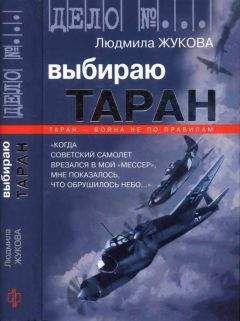Ни Степана Кузьмича, ни Ефросиньи с Шуркой все еще не было. Во флигеле по-прежнему пировали брючники господина Молодухина. Слышно было, как какого-то дядю Федю, человека, видно, немолодого, упрашивали спеть, и дядя Федя поначалу отказывался, а потом гомон пьяных голосов сразу замолк, кто-то долго откашливался, отхаркивался, и вдруг по всему двору рванул звенящий, до немыслимо высокого фальцета поднятый стариковский голос:
Как у нас-то, на Томаке на реке…
Низкий, густой и чистый мальчишеский альт печально подхватил:
Там стояла нова фабричка…
Уже в два голоса они продолжали:
Нова фабричка Каулина-купца…
И полилась щемящая, широкая и горькая песня. Молча слушали ее пригорюнившиеся портные. Застыл на лавочке, во дворе, весь подавшись вперед, Антошин. А она с каждым словом все больше и больше хватала за сердце и уже крепко держала, одна из первых, почитай столетней давности, рабочая песня, песня подмосковных ткачей.
В этой фабрике работнички, Молодые шлихтовальщики, раскрасавицы проборщицы. Они пели песню новую про Ляксея, про Ивановича: «Ты, Ляксей да Иванович, Не пора ли шабашу давать, — Шабашу давать, по улице гулять? Наши ручки передергалися, И головки примоталися. Наши ножки приходилися, Наши глазки пригляделися».
Замолкли певцы, не сразу и почему-то тихо заговорили их товарищи. И вдруг снова отворились двери в их подъезде, снова возник в темном проеме дверей тот самый человек в опорках на босу ногу, но сейчас он был по случаю жары и духоты, царившей в мастерской, без халата, в одном исподнем. Он был пьян, но на ногах держался крепко и даже с большим достоинством, чем прежде. В одной руке у него был шкалик с водкой, в другой — блюдце, а на блюдце — огурец.
— Тверезый? — спросил он Антошина.
— Тверезый, — ответил Антошин.
— Ясно. Не заработал еще?
— Чего такого не заработал? — не понял его Антошин.
— На казенное вино, говорю, не заработал еще. И на закусь тоже, — пояснил свою мысль человек в опорках. — А сегодня, между прочим, Новый год. Полагается выпить, закусить.
— Я еще не поступил на работу, — сказал Антошин.
— Ясно. В таком случае с Новым тебя, Егор, годом, с новым счастьем! — сказал человек в опорках и поднес Антошину шкалик и закуску. — Пей, угощайся за-ради бога.
Вот уж не думал, не гадал Антошин, что ему так придется встречать старый Новый год!
— Да ты не сомневайся, — сказал ему человек в опорках, — всяко случается. Думаешь, у меня всегда работа бывает? Как бы не так!.. Ничего, дай срок, и ты на работу определишься. Ты только дай срок…
Он удовлетворенно смотрел, как Антошин опрокинул в рот шкалик, как закусил ледяным, до ломоты в зубах, огурцом.
— Вот так-то будет лучше, — заключил человек в опорках, и лицо его расплылось в ослепительной доброй улыбке. — Да ты бы к нам зашел. Чего тебе на морозе сидеть?..
Антошин уже шел с обнявшим его за талию брючни-ком к подъезду, когда в воротах показались сначала Шурка, а шагах в пяти Ефросинья, ведшая под руку Степана. Степан был пьян, бормотал что-то не совсем потребное, и по этой причине Ефросинья послала Шурку с ключом вперед.
Шурка отперла дверь и держала ее открытой, покуда Ефросинья вводила мужа домой. Антошин хотел ей подсобить, но Степан Кузьмич от него отмахнулся.
Кое-как добравшись до постели, он грохнулся, как был, в праздничной одежде и сапогах на одеяло и сразу захрапел.
Чтобы привести его в норму, Ефросинья послала Шурку к соседям за огуречным рассолом.
Молодой человек, хорошо знающий свое дело, совершенно трезвый, имеющий рекомендации, срочно искал место лакея.
Его адрес среди адресов нескольких других претендентов на должность лакея и многих адресов кухарок, горничных, нянь, белых дворников, гувернанток, имевших и не имевших рекомендаций, совершенно трезвых и благоразумно умалчивающих на сей счет, молодых и старых, приезжих и местных, Антошин прочел на четвертой полосе того самого номера «Ведомостей Московской городской полиции», который вчера в течение нескольких часов уже принес Антошину столько неприятностей.
Было второе января, нерабочий день — воскресенье. Утро стояло хмурое и ветреное. В подвале у Малаховых было чисто, тихо и скучно. С похмелья и от непривычного ничегонеделанья, которое длилось уже вторые сутки, Степан был мрачен и шипел даже на жену и дочку. Ефросинья, насупившаяся и неприветливая, молча орудовала ухватом у топившейся печки, Шурка отпросилась во двор, поиграть с соседскими ребятами.
И вот, тогда-то Антошину и пришло в голову махнуть на Большую Садовую, разыскать на ней дом купца второй гильдии Вишнякова и посмотреть на человека, который облюбовал себе в жизни место лакея.
Со Страстной площади Антошин свернул налево, к площади Старых Триумфальных ворот. Было странно и удивительно думать, что тому, именем которого сорока двумя годами позже будет названа эта площадь, нет еще и года от роду. Где-то очень далеко, за Кавказским хребтом, в маленьком горном селении Кутаисской губернии молодая мать пеленала в этот час (или кормила грудью, или укладывала спать) лобастого сосунка Володю, и никто (опять-таки кроме Антошина) не знал, что этот мальчик из Багдади станет великим поэтом, что его именем будут называть площади, улицы, школы, пароходы…
И снова, как и вчера, шагал Антошин по улице, и знакомой и незнакомой, и близкой и бесконечно, фантастически далекой. Он встречал, как старых и милых знакомых, дома, которым суждено было дожить до шестидесятых годов будущего века. Двухэтажный дом на самом углу Страстной и Тверской — в нём потом помещался кинотеатр «Центральный»; трехэтажный дом на углу Настасьинского переулка, где Антошин совсем недавно покупал Галке цветы в цветочном магазине, который откроется лет этак через пятьдесят. Нарядный, с колоннами вдоль фасада, со знаменитыми львами на воротах, дворец, в котором двадцатью восемью годами позже должен был открыться Музей Революции. Только оба флигеля еще не укорочены да нет еще во дворе пушки в камуфляжной окраске и пробитой пушечным снарядом железной трамвайной мачты.
Во дворе, забранном в нарядную ограду, было пусто и безлюдно. Только одинокий осанистый мужчина с неправдоподобными пышными черными подусниками на неподвижном румяном лице священнодействовал с деревянной лопатой, сгребая в кучи снег. Он был в щегольском, очень может быть, даже накрахмаленном белом фартуке, на котором в такт его ловким округлым движениям болталась ярко начищенная бляха. Он был суров, важен и полон великолепного презрения к мелькавшим по ту сторону ограды простолюдинам, этот человек, на котором лежала вдохновляющая задача — убирать помет лошадей, на которых прибывали в Английский клуб самые сановные и родовитые московские вельможи.
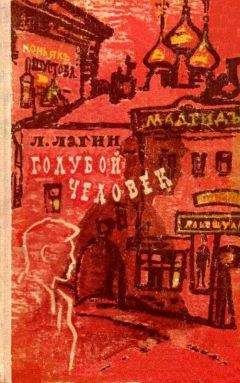
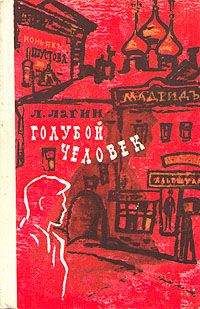
![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)