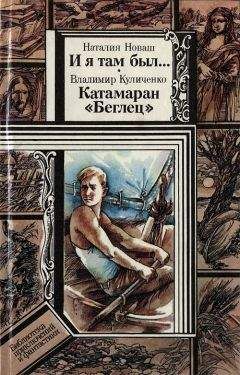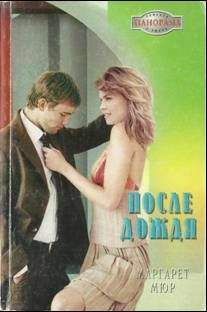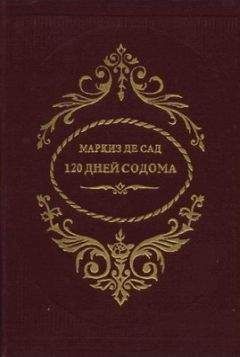— Смотри! Даже камень за миллионы лет может стать похожим на человека. — Это голос моего учителя. Такой живой голос. Как острая белая вспышка боли — память… Так хочется спросить его: «Почему человек сделан из того же камня? Подвластного только миллионам лет… Кто выдумал эту глину?»
…Эволюция? Слепая природа… То, что прежде называли богом, желая видеть хоть какую-то целесообразность в слепой мясорубке безликих темных веков. Она ли виновата в этом? С эволюции не спросишь за ошибки. Ее не обвинишь в жестокости. Она — бесстрастный и всемогущий, великий и недоступный в своей загадочной немоте, неотвратимый бог. Не отвечающий на вопросы.
Но зачем сделаны такими люди? Зачем создан так этот мир, где каждый рожден в страдании?
Мир, где страдание — тот воздух, которым каждый дышит и без которого не может существовать… Жизнь, где страдание — тот ветер, который вертит мельницу ее…
Откуда это непомерное количество страдания? Какие грехи им окупаются, какие баснословные грядущие блага им загодя оплачены?
А если ничто в неумолимой жестокости эволюции не искупается и не оправдывается, то для чего этот в сущности нелепый и безнадежно страдающий мир? Шумящий жизнью миллионнолетних лесов, что исподволь — рождением и смертью всякой страдающей твари, каждым листом и стеблем, мучительно повторенными во множествах поколений, — слагают каменный уголь земной истории…
История — как эта степь. Гнутся, клонятся на ветру травы. Не распрямится жалкая травинка. Не крикнет небу маленький человек: «О, Создатель, какую же халтуру ты произвел! Сделать мир таким и все пустить на самотек… И только наблюдать с высот, как тысячи ужасных лет творится на земле жестокая, кровавая история!.. Так мог поступить либо подлец, либо бессовестный халтурщик. Поэтому-то лучшие из лучших никогда не верили в твое существование!»
С эволюции не спросишь за ошибки.
Зачем сделаны люди из этой божественно-косной глины? Она не поддается новой лепке… Никакого тепла не хватит, чтобы снова расплавить ее и влить, наконец, в искусную и вечную форму шедевра, как бы страстно ни мечтали, ни стремились к этому сами люди…
Будто атом, соударяясь с другими, мечется человек среди подобных себе, веками вынося боль и горечь обид от этих неловких хаотических соударений, — тут каждый виноват в своем страдании сам и все виноваты в страдании каждого… И несчастен любой от неполноценности своей и неполноценности ближнего своего, и все вместе, сталкиваясь, подобно лавине, приумножают страдание. И лишь общей направленной силе способен подчиниться хаос такого движения — силе разума, силе осознанного всепрощения.
Но за что мучаются они в неведении, как дети? Даже те, кто рождены увидеть эту ясную, как день, причину? Увидеть и остаться по-прежнему страдающими и бессильными…
Я просыпаюсь. Я вытираю с висков и со лба холодный пот и облегченно открываю глаза. Это тоже мой сон. Каждую ночь меня мучает один и тот же кошмар — я переживаю в себе эти мысли. Они снятся мне здесь постоянно, являясь затем, чтобы я никогда уже это прошлое не забыла.
Я прихожу сюда в такую рань каждый день — с тех пор, как началась весна. Когда снег растаял, все проснулось вокруг и, закипев жизнью, стало изменяться на глазах, будто впитывая сказочные силы, что прибывали вместе с теплыми утренними дождями; с ветром, несущим из синих высот озон и грозы; с солнцем — теперь обжигающим, могучим и близким. Кусты вдоль реки цветут: облака лепестков, море душистой пены. И деревья распускают свои маленькие листья, даже на дубе набухли почки. Желтые, рассеивающие пыльцу сережки падают мне на голову и путаются в волосах. А если прислушаться, то кажется, что гудят в высоте тысячи пчел…
Каждое утро я иду по траве босиком. Она доросла мне уже почти до колен. Роса холодная, как вода в речке, что шумит за спиной. А там, на холме, за красными развалинами и темнеющим хвойным лесом, всходит солнце, и всякий раз в такую минуту я вспоминаю, как увидела этот мир впервые…
* * *
Придя в себя, я почувствовала, что сижу в неудобной позе — будто бы на земле или на полу, вытянув ноги и прислонившись спиной к чему-то твердому и шершавому. Я инстинктивно поискала руками опору и нащупала под собой сухие листья и влажную холодную землю. В этот момент я открыла глаза. Поразительно безучастно подумала, что все еще там, в парке… Но нет, это был совсем другой парк — где-то вблизи реки на заливных лугах. И стояла другая, уже глубокая осень… Пахло старой травой, слышался шум течения по камням, и воздух, чистый, как в детстве, леденил зубы.
Листва на земле была уже не желтая, а безнадежно побуревшая. Почти точно можно было сказать, что это листья дуба. И все-таки это была лишь иллюзия дубовых листьев. Мозг, как безошибочная счетная машина, видел фальшь. Так искуснейшая подделка бывает неотличима от подлинной вещи, но глаз говорит: «Не то! Здесь что-то не то». Вроде восковых яблок, поразивших меня в доме приемных родителей. Чем румяные бока яблок отличались от настоящих, было загадкой, но сразу чувствовалось, что они искусственные… Продолжая смотреть на листья, я поняла, что меня смущало: листья были грубее, жестче. Какая-то лишняя доля миллиметра толщины всю картину делала иной. И не так обычно осенью покрывают землю листья в дубовом лесу… «Тонко сделано!» — машинально отметил мозг, еще не успев осознать важность этой детали, и тут мое внимание было отвлечено другим.
Наверное, я все же очень медленно приходила в себя. Иначе как было не заметить, что рядом — в поле моего зрения — находились еще три человека. Двое сидели на земле слева от меня, так же, как я, прислонившись к огромному дереву с грубой потрескавшейся корой. Люди были без сознания или спали, и только третий, похожий на подростка, ковылял невдалеке в облетевших кустах.
Я медленно повернула голову к незнакомцам. Нет, точно, они крепко спали, накрытые целым ворохом хвои и сухих листьев. С краю ворох был разворочен — видно, третий как раз выбрался из этого укрытия. Я подняла ветку незнакомого хвойного дерева с длинными голубоватыми иглами. Тяжелая густая хвоя уколола мне пальцы, и я вдруг представила, что двое сейчас проснутся и увидят меня. В этот момент, словно по команде, один из них, лежавший ближе, светловолосый и широколицый, потянулся и открыл глаза. В их быстром и умном взгляде почувствовалась сила спокойного превосходства. Темно-серые и необычно живые, они смотрели словно бы и не со сна: самоуверенно и заинтересованно, даже с некоторым оттенком наглости. Обернувшись ко мне, светловолосый пробормотал что-то. В глазах и лице его, простецки грубом, но с чуть презрительно-высокомерным ртом, заиграла ухмылка. Странно кривясь, начали растягиваться губы, насмешливо сморщился нос, а в энергичных складках у рта проступило нечто довольное и слегка хищное. Наконец он расхохотался, оглушительно, как из бочки, голосом пропившегося мужика, но с теплой хрипотцой, и тотчас на грубом лице его ясно обозначилось притягивающее и обезоруживающее добродушие. Смехом он разбудил своего соседа — темноволосого человека с утонченными чертами лица, который глянул на меня удивительно и настороженно.