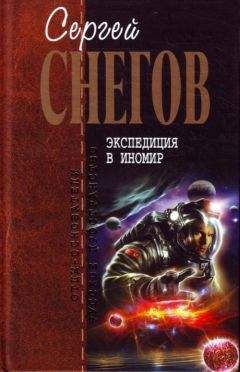На космодроме нас ждали санитары. Ирину повезли в больницу. В машину, кроме двух врачей, местного и с Ниобеи, села Агнесса Плавицкая. Перед этим она подошла ко мне. Лицо ее кривилось, она еле удерживалась от слез.
— Какой ужас, господин Штилике! — восклицала она. — Такая молодая женщина! Что будет с нашим другом Джозефом? Он так любил свою жену. Мы все ее любили, господин Штилике, она того заслуживала.
— Где Виккерс? — спросил я.
— Он улетел на астероиды. Их такое множество вокруг Гармодия и Аристогитона, еще и трети не исследовано, это теперь главная работа Джозефа. Я послала радиограмму о несчастье с женой, он скоро прибудет.
— Вы так и сообщили — несчастье с женой?
— Нет, конечно же, нет! Осторожней: Ирина заболела, нужно ваше присутствие. Такой ужас, господин Штилике, такой ужас!
— Ваш шеф у себя? Мне нужно поговорить с Барнхаузом.
У нее изменилось лицо. Только что оно было полно скорби. Теперь в нем появилась вражда.
— Придется вам подождать. Барнхауз на Ниобее. Он вылетел туда сразу, как получил сообщение от Мальгрема о вашем чудовищном приказе. Как вам могло прийти в голову такое возмутительное решение? Мы будет протестовать!..
— О моем решении мы поговорим с Барнхаузом, а не с вами! — оборвал я ее, — Когда он вернется?
— Не раньше, чем завтра к вечеру. — Она демонстративно отвернулась и шагнула к машине.
После короткого отдыха в гостинице я пошел в больницу. Оба врача повторили все ту же формулу, которую я слышал весь полет: «Пока изменений нет». Я больше не мог терпеливо выслушивать это и потребовал точного растолкования. Врач Базы был категоричней ниобейского врача.
— Она умирает, друг Штилике. «Изменений нет» в данном случае означает, что угасание жизни продолжается неотвратимо.
— Неужели современное могущество медицины, ваши совершенные лекарства и методы…
Он прервал меня:
— Их хватает только на то, чтобы задержать умирание. За словами «изменений нет» стоит все могущество современной медицины. Не требуйте от нас чудес. Вы хотите к Миядзимо? Идемте вместе.
Врач первый прошел в палату. Изменений не было, он говорил правду. Ирина по-прежнему лежала на спине, бледная, с закрытыми глазами, с выпростанными поверх одеяла руками. «Третий день на спине, ни единого движения, ни единого взгляда, — думал я. — Третий день… Изменений нет — пока…»
— Уйдемте отсюда, Штилике, — шепотом велел врач.
Я позвонил в космопорт. Планетолет с Барнхаузом вернулся с Ниобеи, Барнхауз поехал к себе.
Я пошел в управление. Агнесса Плавицкая нервно ходила по приемной. Она встала передо мной, преграждая путь. Мне было не до шуток и иронии, и я не собирался ни шутить, ни иронизировать, но невольно сказал не так, как надо было:
— Ваш начальник не принимает посетителей, друг Агнесса?
Она вспыхнула. Золотые колокольчики в ее ушах зазвенели отчаянно и жалобно.
— Он ждет вас, господин Штилике. Но он нездоров. Он сильно отравился на Ниобее. Пожалейте его, господин Штилике. Даже если он… в общем, если что вам не понравится… все равно, не будьте к нему суровы. Молю вас, господин Штилике! Ему надо лечь в постель, а он захотел объясниться с вами.
И колокольчики Агнессы мелодично повторили ее мольбу. Я ничего не понимал. Она говорила возбужденным шепотом. И если бы она остановилась на своей непонятной просьбе, я, наверно, от одной растерянности пообещал бы выполнить все, что она пожелает. Но она добавила:
— Вы теперь должны быть мягче, господин Штилике. Вы так виноваты перед Джозефом и Питером-Клодом! Разве случилось бы это несчастье, если бы вы не разрешили Ирине полететь с вами? Вам так хотелось быть с ней, я понимаю, Ирина очаровательная женщина… Какой урок для всех нас, господин Штилике, эта трагедия на Ниобее. Но я прошу вас, от всей души прошу… Вы понимаете меня?
Это был перебор. Я еле сдерживал бешенство.
— Не понимаю! И, осмелюсь заметить, не нуждаюсь в вашем прощении, Агнесса. И буду вести себя так, как велит мой разум, а не вы.
Она отшатнулась от меня, как будто я ее ударил. Колокольчики зазвенели смятенно и громко.
— Ненавижу вас! — сказала она рыдающим шепотом, — Боже, как ненавижу вас!
— Агнесса, с кем вы шушукаетесь? — донесся из кабинета голос Барнхауза. — Когда же придет этот ваш любимец Штилике?
— Уже пришел, — сказал я, отворяя дверь.
Барнхауз восседал за своим просторным, как теннисный корт, столом — лохматый, краснощекий, широкогубый божок какого-то дикарского племени. Он возложил на стол могучие руки — пятипалые лопаты на длинных толстых черенках. Глаза его, слишком маленькие для такого обширного лица и отороченные воспаленными веками, тускло рдели. Мне показалось, что он напился.
— Не пьян, не пьян! — ответил он на мою невысказанную мысль, — Законов не нарушаю, можете мне поверить. И другим не позволю. Надышался сернистого газа. Мальгрем уговаривал не лезть на вулкан, а я полез. Люблю пламя. И сернистый газ люблю. Но перебрал. Два дня буду ходить осоловелый! Да, Штилике, беда у нас с вами. Погиб хороший человек. По нашей с вами вине погиб. Вы разрешили вести жертву на заклание, я предоставил транспортные средства… в смысле, планетолет, вы понимаете меня?
— Миядзимо еще не погибла, — сказал я. Мной опять овладевало бешенство.
— Погибнет, куда она денется! Смерть у нее в головах, в саване, машет косой, скверная старуха! Долго ли смогут ее отпугивать лекарствами и облучениями? Не делайте таких глаз, Штилике, нехорошо так выщериваться, поверьте мне. Я не столь воспитан, как Джозеф, у меня без изящества, но кое-какие правила хорошего тона вызубрил. Особенно с полномочными уполномоченными… Сочетание слов, Штилике! Люблю внушительные сочетания — не просто уполномоченный, а еще и полномочный… Еще бы чрезвычайного добавить, а? Как в старину — чрезвычайный и полномочный посол!..
— Хватит вздора! — прервал я его болтовню..
Он наслаждался моим нетерпением. Я вспомнил слова Теодора Раздорина: «Пьет с приятелями и закусывает ими». Я не был приятелем Барнхауза, но закусить мною он, кажется, намеревался. Отравление сернистым газом бывает похоже на алкогольное опьянение, я часто видел людей, на которых так действовали вулканические испарения.
— Какой же вздор, Штилике? Не болтовня, нет! Разве я осмелился бы?.. Уже говорил: я — это я, а вы — это вы. Разница! Ваша слава — это же великое звание, ваша слава, я же все понимаю, Штилике.
— Слава это не звание, а деяние, — сказал я, мне надо было что-то сказать.
Барнхауз ухватился за случайную подсказку. Он подстерегал момент, чтобы, забив мне предварительно голову болтовней, удобно повернуть дело.