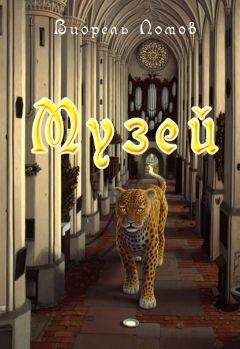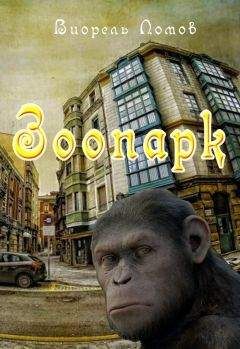Безграничность дня заключена в клетке, на которой написано «Буду через десять минут». Но эти десять минут длятся вечно. И не наступает день, а лишь длится его ожидание. Я дрожал от этого тянущегося и никак не рвущегося ожидания. Оно звенело во мне пронзительной нотой, оно пронизывало меня, как игла бабочку, как фотовспышка женскую красоту.
«Безусловно, Перхота был обаятельный человек, – в краткие минуты апатичного покоя думал я. – Но неужели это смогло пересилить мое чувство, неужели обаяние – это единственное, что нужно человеку для того, чтобы подчинить себе другого человека? Может, он и впрямь был творческой личностью? Что, что мне с того?!»
Я иногда видел Элоизу в толпе. «Что делать, Элоиза?» – в отчаянии спрашивал я ее. Она отвечала, но я не помню что. В другой раз я не спрашивал ее, а лишь жадно следил за тем, чтобы она не потерялась из поля зрения, и она молчала, и я знаю, о чем. Она молчала обо мне, она мысленно задавала мне один и тот же вопрос: «Ну что же ты молчишь? Позови меня!» Элоиза исчезала, но я еще несколько часов помнил ее голос. Он гулял во мне, как звук скрипки, загнанный в душу. Ее отсутствие я ощущал физически.
Наверное, потому, что раньше она не принадлежала мне, а сейчас, когда ее нет, безраздельно принадлежит мне, и только мне одному. Что больнее, кто скажет?
О Господи, если мысли – это мой дом, то почему мне в нем так неуютно?
Когда я совершенно отчаялся…
Когда я совершенно отчаялся найти Элоизу, Вовчик затащил меня к себе домой. Федул уже был там. На кухонном столе была классика: бутылка белой(вторая в холодильнике), три пива, лук, помидоры, хлеб. Федул дорезал колбасу.
Пили молча и сосредоточенно, как могут пить только на русской кухне. Когда от второй бутылки осталась половина, начались разговоры.
Вовчик и Федул вдруг ударились в синхронное плавание воспоминаний.
– Какая это была женщина! – дуэтом восклицали они. – Совершенно изумительная, неземная, нереальная женщина! Язык не поворачивается назвать ее бабой! Умом понимаем: баба, а язык произносит: женщина! Как она заботилась о нас! Она была нам даже не сестра, она нам была мать! А ведь она намного моложе нас!
– Да что же это вы как на поминках? – содрогнулся я.
Они не слышали меня. Они пребывали в своем неизбывном горе.
– А какая красавица! Какие у нее руки! Ты обращал внимание, какие у нее руки? Не уберегли, не уберегли!
– Да что вы убиваетесь? – пытался возражать я. – Что вы заладили: не уберегли, не уберегли! Как бы я ее уберег, если она была вне меня?
– Не о тебе речь, – произнесли они. – Речь о нас. Не уберегли ее мы! Она доверилась нам, как мужчинам. В первый раз, когда она наглоталась таблеток и тут же прибежала к нам, мы отпоили ее, и она сказала нам: вы теперь мои старшие братья, защищайте меня, и мы поклялись ей: пальцем больше никто не тронет тебя, мы ей даже подарили рысь, чтобы она защищала и охраняла ее! Не уберегли!..
Я не помнил, сколько еще мы сидели и куда я пошел потом.
Хочу подвести черту…
Хочу подвести черту: в будущем, господа, если что и сохранится от нашей жизни, так разве что в музее. Прошлое хорошо раскладывается по всяким коробочкам и витринам. Я бы, не раздумывая, положил свою жизнь в музей на сохранение, пока она не разродилась новыми ужасами или не выкинула очередной фортель.
В принципе, каждый человек – музей.
Он многослоен, многоэтажен. В нем есть администрация, которая берет больше, чем дает, ибо заботится о развитии; есть историки и искусствоведы, которые обоснуют необходимость либо полную ненужность любого экспоната или события; есть хранители, реставраторы, смотрители, которые отвечают за то, что уже собрано, пылится и гниет; есть исследователи, которые неустанно рыщут, пополняя запасы, предела которым не ведает их страсть; есть таксидермисты, которые из любого, даже безобразного живого создания сделают прелестное чучело; есть электрики, слесари и разнорабочие, которые сделают всё, что им ни прикажут, и которые не будут делать ничего, если о них вдруг забыть.
В нем есть закуток художника, где тот держит краски, кисточки, фартук и прочие аксессуары своей деятельности и куда изредка любит забредать вдохновение. Там есть конура, куда фотограф приводит девиц и снимает с них всё, что только снимается. А в тихой уютной библиотеке совсем старые книги десятилетиями прислушиваются к женским голосам историков и хранителей, неизменно говорящих о жизни, любви и булочках с маком. В нем есть пыльный, пустой чердак, в котором просторно мыслям, и подвал, где тесно от чувств.
Есть в нем еще что-то невидимое, заключенное в слоях и грудах неподвижных вещей. Это нечто заставляет снимать шляпу и не повышать голос, даже если ты полновластный хозяин этого дома. Он многослоен еще и слоями каждого экспоната, которые составляют его суть и которым только он продлевает жизнь. А еще в подвале долговременного хранения есть чулан, от дверей которого потерян ключ, в котором ждет своего часа чучело двугорбого страуса. Я заглянул туда как-то, заглянул… Единственное, чего я не нашел, это чана с живой водой. Найди я его, думаю, открыл бы секрет души. Куда его запрятал Федул?
Если бы дано было увидеть это сооружение сразу во всех срезах и сечениях, взору предстало бы величественная и неуклюжая конструкция человеческого тщеславия, суетности и эгоизма, безобразная и прекрасная одновременно, гранитные и мраморные залы которой набиты не только памятниками гения, а и всяким хламьем.
Он выставляет наружу то, что считает ценным сегодня, и прячет в своих фондах то, что пригодится потом. Он сдает часть своих площадей в аренду тем, кого, не будь нужды, близко не допустил бы к себе. Он постоянно разрывается между желанием накопить и желанием поделиться накопленным со всеми. Он скуп и щедр одновременно. Он нужен всем – и он не нужен никому.
У него есть непререкаемый, признаваемый во всем мире День рождения18 мая и есть сокрытый пока во мгле будущего День смерти – скорее всего, он придется на День всеобщей гибели человечества. Может, оттого людей и тянет в музей: увидеть то, чего там еще нет, но для чего приготовлено место?
Я остался навсегда в музее…
Я остался навсегда в музее. По третьему пункту типового контракта и я, и администрация согласились на пролонгацию. Верлибр передал мне часть своих функций. Он теперь не ходит по музею и не пьет с нанимаемыми работниками чай. Он не знает теперь, где засорился унитаз или рожок душа. Он пишет докторскую диссертацию (а может, роман?) о хранителях ценностей. За сохранность всех экспонатов теперь отвечаю я. Пантелей уволился и сопровождает чужие грузы в Казахстан и Туркмению. В Россию он неизменно возвращается со словами: «По бабам, по бабам, по бабам!» и через пару дней заявляет: «Таких баб, как у нас, во всей Азии нет! Да и в остальных частях света».