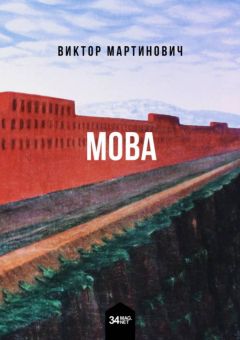— Спасибо, не стоит, – я улыбнулся и махнул рукой – я совсем ухожу, сам себе зрачки маркируй, идиот.
Я успел отойти буквально на несколько метров, когда увидел впереди, в низком чахлом ельнике, который отделял аэродром от высоток, дюжину темных фигур. Первой моей мыслью было: и тут нашли. Но фигуры были какие-то не такие – худощавые, какие-то скрюченные. Может быть, если бы я шел через главный выход, этого бы не произошло, но кто его знает: Минск – город жестокий. Короче, я понял, что намечается заваруха только тогда, когда бежать было уже поздно.
Они обступили меня, будто те противные шестиэтажки, в которых такие, как они, и живут, обступили площадку Боровой. Но все не решались подойти ближе, поскольку бандерлогам в принципе свойственна боязливость. Когда глаза привыкли к темноте, я рассмотрел их неброскую красоту: отвисшие вьетнамские треники, кепки-семки, латунные перстни на пальцах – все то, что у них уже лихорадочно перенимала клубная молодежь, которая танцевала буквально в ста метрах отсюда. Но на этих все это выглядело тру. И потому – страшно.
Наконец из группы выделился один, немного менее горбатый и худой, и, сплюнув, задал мне какой-то вопрос. Остальные переминались с ноги на ногу и ждали. Я не услышал, что он спросил, потому что было довольно шумно – Боровая всегда отличалась тем, что после фестивалей возрастало число посетителей лор-кабинетов.
Тогда он подошел совсем близко, положил мне руку на плечо и закричал, прямо в ухо, потому что иначе он сам бы себя, вероятно, не услышал:
— Зачем ваши Белого покатили?
— Что? – из этой фразы я понял только слово «зачем». Ну и вопросительный знак в конце.
— Белого! Ваши! Белого! Покатили! Зачем? – спросил он.
Я до сих пор подозреваю, что, может быть, на этот вопрос и существовал некий правильный ответ и что, крикнув ему: «Потому что Белый с цыган не откатил!» или «Потому что братва ему маляву кинула!» или «Потому что двадцать восемь», — можно было избежать махача. Но все, что я сделал – это просто еще раз спросил:
— Что?
И он меня ударил – кулаком в зубы. Я покачнулся, но не упал и получил еще под дых и по голове. И вот, уже глотая пыль, щедро политую кровищей из носа, я услышал, как они подбегают со всех сторон. Кто-то бьет меня с размаху по спине так, что отдает аж в ноги. Чьи-то быстрые руки вынимают из карманов кошелек и телефон. Губы покрываются каким-то буграми, набухают и немеют, немеют… Глаз заплывает, в общем, я, прямо как в Genes for Fun, становлюсь другим человеком, значительно менее поворотливым, чем я сам. Человеком с широченными скулами, огромными губами, узкими китайскими глазками и соленым привкусом во рту.
Вот тут, где-то на грани полной бессознанки, я с удовлетворением ощутил поднимающуюся изнутри меня ненависть. Набрав в пригоршню земли, я сыпанул ею в глаза тому, кто был ближе. С оттяжечкой и удовольствием саданул ему по яйцам ногой так, что тот аж завизжал, как поросенок – крик прорвал даже грохот фестивальных басов. Со всей силы, которая еще оставалась в теле, брыкнулся куда-то в темноту, и нога попала в мягкое, хрюкнувшее от боли. Движимый пульсирующим безумием, встал на колени, готовый грызть, жрать, разрывать шеи зубами. Но нападающие уже скрылись – вот даже такого придушенного сопротивления оказалось достаточно, чтобы их напугать. Постоял так, покачиваясь на коленях, и упал на землю, ощущая, как голову изнутри разбивает камнебойный молот боли. Засмеялся, выхаркивая кровь: что за штука жизнь! Минуту назад меня чуть не арестовали, а теперь – еще чуть-чуть и вообще замочили бы. Просто так. Я потерял сознание, а когда включился, увидел над собой ноги милиционера – он озабоченно меня рассматривал, и на его лице читалось: «Нападение! Ограбление! Это же дело надо возбуждать! И это будет еще один «висяк» в нашем Советском РОВД!». Из-за забора доносились звуки того же трека, под который я вырубился.
— Парэнь, ты как? – спросил он меня, наклонившись.
Какое-то акустическое чудо позволило мне услышать его вполне разборчиво. Даже через басы.
— Хорошо, дяденька милицанер! – прокричал я ему в лицо. – Все хорошо! Не стоит беспокоиться!
— Сколько их было? Приметы помнишь?
Каждая черта его лица молила, чтобы я не помнил приметы.
— Не знаю! Со спины напали!
Он благодарно кивнул. Я улыбнулся разбитыми губами и прокричал, преодолевая тошноту:
— Спасибо за беспокойство, товарищ милицанер! Я сам справлюсь! Возвращайтесь на пост!
Милиционер вежливо махнул рукой, его лицо стало светлым, будто лик ангела.
На его поясе лихорадочно мигал красным индикатор мова-сканера. Писка сканера не было слышно из-за музыки.
На Логойке я взял такси и вскоре уже отлеживался дома. Самое смешное, что сверток с мовой бандерлоги не нашли, он все еще лежал в кармане байки, а обчистили они штаны. Листок оказался необычный: это был не фрагмент, взятый из бумажной книги, но и не обычная кустарная рукопись. Больше всего она напоминала распечатку текстового файла на казенном принтере. В шапке распечатки стоял номер – то ли копии, то ли фрагмента — «22993СП».
Мне показалось логичным, что этот казенный наркотик не вставит, потому что его задачей было исключительно подвести меня под статью. Я думал, что тут в принципе будет не настоящая дурь, а только какое-то плацебо. Но до меня быстро дошло, что, если бы они мне передавали просто невинную бумажку с буковками, не было бы никаких оснований для возбуждения уголовного дела. Так что госнаркоконтрольский стафф должен был вштырить сильно и держать по-взрослому.
Текст на свертке был странноватым – перевод какого-то европейского средневекового фрагмента, может быть – фейк или mockumentary. Потому что написано было от имени женщины, а во время Османской империи, когда правил янычар-ага, — женщинам не то что путешествовать и приключенческие тексты писать не позволялось, они даже из дому без разрешения мужа выйти не моли. Вот что было на листке:
«Ён меў дыяментавы гадзіннік, і аздоблены дыяментамі нож, і пярсцёнак, і футра сабалінае на сабе. У другой калясцы былі дзве яе нявольніцы і яе малыя дзеці, і ўзялі мы з сабою шмат добрых страў і цукровых сіропаў для піцця вады. А я загадала свайму лёкаю, каб дзеля мяне ўзяў дзве маленькія пляшачкі віна, і каб схаваў іх у калясцы, і каб мая кадыня не бачыла. Мы былі ў садзе, а каляскі стаялі ля саду. Я пасля частавання выйшла нібыта па нешта і сказала майму лёкаю: «Дай мне адну пляшачку віна». І я выпіла яе, а другая, поўная, засталася. Але ў Стамбуле існуе забарона піць і прадаваць віно, і таму частая і строгая варта ходзіць. І наткнулася варта на наш поезд, і знайшлі яны пляшку віна, і другую, выпітую (але з вінным пахам), і пыталіся, хто гэта піў? Фурман сказаў: «Не ведаю». Пыталася варта, што гэта за белагаловыя з мужчынамі? Фурман сказаў: «Гэта яны нанялі ў мяне каляскі». Варта толькі кепска пра нас падумала, мяркуючы, што той сын Фейзула – кепскі чалавек і мы, белагаловыя, людзі распусныя і дурных паводзінаў. Дык без цырымоніі пачалі яны яго, небараку, тармасіць на вачах у маці і адабралі гадзіннік, нож, сабалінае футра, а яго цапамі ўзяліся біць, і ён пад вартаю пад арышт за тую правіну пайшоў. Гэты Фейзула быў пакаёвым пахолкам у стамбульскага янычар-агі, гэта значыць, што ён клапоціцца пра турбаны янычар-агі. А мяне выратаваў Бог ласкаю сваёю»[12].