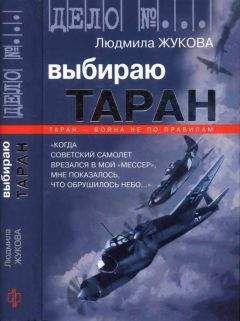— Тише, Лкдусенька, тише! Еще услышат! Срам какой! Невинная девица, и такие слова!..
— Вот сегодня же вечером оденусь потеплее и прямо пойду на бульвар, уныло стращала Лидочка, — сладенько покушаю…
Скрипнула дверь черного хода, и госпожа Рябоватова заторопилась:
— Он!.. Иван Трофймыч!.. Вы тут без меня потолкуйте, а уж я вас за это так отблагодарю, так отблагодарю, останетесь довольны!
Перекормленной утицей она выплыла из кухни и осторожно прикрыла за собой дверь.
Вошел Евстигнеев, молодец лет двадцати пяти, крепкий, статный, с мелкими, но правильными чертами лица, украшенного щегольскими светло-русыми бачками.
Он был в зеленой охотничьей куртке с шелковыми витыми бранденбурами, узких синих брюках со штрипками, модных ботинках на пуговицах.
Не обращая внимания на Антошина и Фадейкина, он достал из кармана ключик, присел на корточки перед тумбочкой с эмалированным тазом, стоявшей под железным рукомойником, отпер ее, извлек из нее жестяную мыльницу, а из мыльницы — ярко-розовый кусок туалетного мыла, от которого на всю кухню ударило острым, как уксус, и неправдоподобно сладким земляничным запахом. Позвякивая стерженьком рукомойника, Евстигнеев долго мыл руки с тщательностью врача, только что осматривавшего заразного больного. Покончив с мытьем, он не торопясь, со смаком упрятал мыло в мыльницу, мыльницу в тумбочку, запер тумбочку, опустил ключик в карман и только тогда стал с не меньшей старательностью вытирать руки. Полотенце было хорошего полотна, с вышитыми петушками и витиеватой большой монограммой, составленной из букв «И», «Т» и «Е».
Повесив полотенце на крючок так, чтобы была видна монограмма Евстигнеев наконец заметил гостей:
— Вы к кому?
— К вам, — сказал Антошин. — Если это вы поместили в газете объявление, то к вам.
— Было такое дело, — кивнул напомаженной и расчесанной на прямой пробор головой Евстигнеев. — Тебя прислали за мной или как?
На всякий случай в его голосе послышалась теплая нотка.
— Нет-нет, никто нас не прислал. — Евстигнеев заметно скис. — Мы сами к вам пришли… Посоветоваться…
— Чего, чего? — вытаращил на них глаза Евстигнеев. Антошин вытащил из-за пазухи газету и разыскал на четвертой полосе объявление.
— Вы пишете, — продолжал он, — «Молодой человек, хорошо знающий свое дело, имеющий рекомендации, срочно ищет места лакея».
В такт его чтению Евстигнеев качал головой, зажмурив глаза. Так наслаждается молодой поэт, впервые слышащий в чужом исполнении любимое свое стихотворение.
Раскрыв глаза, он уже более благосклонно глянул на Антошина: «Ишь ты, грамотный! И до чего шибко читает!»
— …А мы с ним кто? — кивнул Антошин на Фадейкина. — Мы с ним мастеровые люди. Лакея в цеху, понятно, не увидишь. (Евстигнеев сочувственно кивнул головой.) Для нас, в нашем рабочем положении, настоящий лакей (Евстигнеев приосанился) — недостижимый человек… И вдруг я читаю объявление. Я тогда Фадейкину говорю: «Пойдем, говорю, Илюша, посмотрим на настоящего лакея. Когда еще нам другой такой случай представится. Может, говорю, уделит нам время, поделится опытом, как человек лакеем делается…».
— Да ну вас! — разочарованно зевнул Евстигнеев. — Очень мне интересно с вами, вахлаками, лясы точить!..
Антошин молча встал со своей табуретки, застегнул полушубок. Встал и Фадейкин.
— Извините за беспокойство! — сказал Антошин. — До свидания!
Они были с Фадейкиньш у самых дверей, когда Евстигнеев воротил их назад.
— Да ладно уж, — сказал он, — раз пришли, потолкуем, пока самовар поспеет…
Антошин с Фадейкиньщ вернулись на свои табуретки, Евстигнеев расстегнул тужурку. На кухне становилось все более душно и жарко, а форточка в ее единственном окне была наглухо заклеена до весны.
— Блеманже ел? — неожиданно спросил Евстигнеев Фадейкина.
— Нет, — сказал Фадейкин. — Это что такое — блеманже?
— А ты? — обратился Евстигнеев к Антошину, оставив без ответа вопрос Фадейкина.
— И я не ел, — сказал Антошин.
— А я ел!.. А что такое блеманже, тебе известно?
— Кажется, такое сладкое блюдо? — ответил Антошин.
— Не можешь ты быть лакеем! — удовлетворенно заметил Евстигнеев.
— Это почему? — удивился Антошин.
— Был бы ты настоящим лакеем, ты бы сказал: «Нет, не знаю. Позвольте мне, дураку неумытому, просветиться, узнать». Тем самым ты бы мне доставил удовольствие, поднял бы меня над собой и своего достиг бы. Поскольку тогда у меня к тебе было бы хорошее чувство, а ведь ты во мне нужду имеешь. Понятно я говорю?
— Понятно, — сказал Антошин.
— Блеманже — это такое сладкое блюдо, которого ни тебе, ни тебе, мастеровщине немытой (Евстигнеев ткнул пальцем в Антошина и Фадейкина), не то что кушать, попробовать даже и то не придется. А я кушал. Теперь, скажем, продолжал Евстигнеев, всё более и более распаляясь, — ели вы куриные котлеты, называются «де валяй»? Обратно, котлеты пожарские, котлеты марешаль, котлеты министерские, котлеты «Палкин», беф а-ля Строганов, салат «Оливье», салат провансаль, паштет страсбургский, осетрину паровую, осетрину жареную, осетрину заливную, севрюгу, балыки всякие, суп черепаховый, суп консоме, суп крем, икру паюсную, икру зернистую, икру китовую, которую кит мечет… Да вы даже названий таких не знаете и знать никогда не будете, и дети ваши знать не будут, и внуки, и правнуки. А я ел! В агромадном количестве ел. Иной раз уже и дышать нету никакой возможности, а ешь, давишься, через силу глотаешь. Хлопнешь для скользкости чарочку шампанского или, скажем, портвейнцу и снова ешь. А почему? Во-первых, ужасно как вкусно. Во-вторых, — даровое, понятно это вам, серое вы мужичье, да-ро-во-е!.. Всё непокупное, все даровое! Сколько на столе остается — все мое! Во!.. А вам до гробовой доски только и жрать что щи да кашу, кашу да щи, редьку с квасом да квас с редькой. Ну, и еще тюрю…
— А по моей одежде и обувке, — продолжал Евстигнеев, с удовольствием окидывая себя взглядом, — если издаля на меня посмотреть, скажет кто, что я служащий человек? Каждый скажет — барин.
— Издаля конечно, — с готовностью согласился Антошин. — А вблизи сразу видно — лакей.
— Вот именно, — не менее охотно согласился Евстигнеев, — лакей, а не токарь-пекарь какой-нибудь… Поскольку одежда и обувка у меня тоже не покупные, а дареные. С господского плеча-с… И еще полный чимайдан всякого добра.
— Так задаром и дают? — спросил Фадейкин.
— Задаром, задаром! — передразнил его Евстигнеев! — Так, задаром, и сучка не ощенится. За-да-ром-с!.. Нет, братец ты мой, тут самолюбие требуется, аг-ро-мад-ней-шее самолюбие. Или ты не лакей! Потому лакей без самолюбия, что дьякон без бороды, что духи без запаху, что компот без сахару… Вот, возьмём к примеру такой случай: барин вернулся домой веселый, ты его ко сну готовишь, разуваешь его, к примеру, а он тебя, как дитя какое, от веселья своего норовит носочком ботинка да в рыло. Ну, что ты в таком случае сделаешь, мастеровой, можно сказать, человек, безо всякого самолюбия? — Посторонюсь, — сказал Фадейкин.
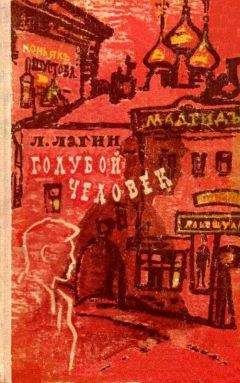
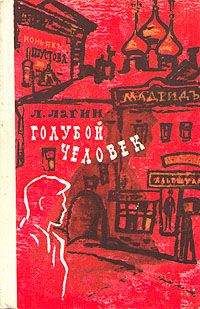
![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)