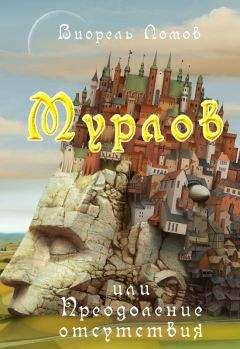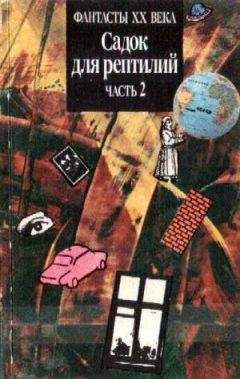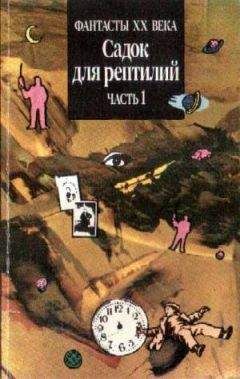Два часа – чего? Время то уплотняется в алмаз, то расползается ветошью, то пульсирует, как горный поток, то опустошает, как отчаяние. Два часа надежды? Надежда может жить в камне, летящем навстречу другому такому же камню, но надежды, похоже, нет в луче света, летящем во тьму.
Незаметно пролетели два часа. «Как быстро, – подумал я. – Значит, я уже ни на что больше не надеюсь и ничего больше не жду. Может, это и к лучшему».
Сестра уснула. Ей сейчас нельзя быть рядом со мной. Никому нельзя сейчас быть рядом со мной. Рядом со мной должна быть только толпа, только те, кому меня не жаль и кого не жаль мне. И вдруг я вспомнил. Я всю жизнь любил человечество и презирал отдельных людей. Как я ошибался! Во всяком случае, мне не хотелось бы стать жертвой тех людей, кто мне не безразличен. Я тихо встал. Женщина улыбнулась во сне. «Прощай, Сестра», – подумал я. Лицо ее приняло растерянное выражение. Мне раньше казалось – я тоже вспомнил вдруг – что растерянность можно увидеть только в глазах.
– Прости, Сестра, – тихо сказал я и пошел к трибуне, тут же забыв обо всем на свете. Внутри меня рухнул мост. По нему мне уже не вернуться.
Я поднялся на трибуну, щелчком проверил работоспособность микрофона, набрал в легкие воздуха, шумно прогнал его через себя, выдохнул, успокоился и нырнул на дно людского залива. Там осмотрелся и убедился, что он страшно темен, илист и глубок. Но что о нем говорить, что портить слова и краски? И я разбил людей на отряды и назначил им командиров – Боба, Бороду и Рассказчика.
– Командиры – ко мне!
На трибуну поднялись мои спутники.
– Ты что, с ума сошел? – спросил Рассказчик. – Какие мы, к черту, командиры?
– Ну да, я кончал бронетанковую академию, – сказал я.
– Ты – Рыцарь! – патетически воскликнул Рассказчик, а Боб закивал головой.
– Понимаю, тебе было бы сподручнее вести колонну не этих оборванцев, а прозаиков и поэтов, а Бобу – девиц из кордебалета, но, видишь ли, литераторам что-то тут не пишется, а девкам не пляшется, и ополчение из них уж точно не собрать.
– Ты – Рыцарь, – повторил Рассказчик. – Тебе видней.
– Раз видней, вот и пойдем, пока не развиднеется. А там видно будет! Главное, ребята, людей надо мотать по подземелью как можно дольше, чтобы у них не осталось даже злости. Основная задача: растянуть колонну, разорвать ее на группы, а людей в каждой группе оттянуть друг от друга. Пусть между ними будет пустота. Пусть каждый побудет немного с собой наедине. Пусть каждый обрушит свою злость в эту пустоту или внутрь себя, что, впрочем, одно и то же. Чем меньше будут группы, тем больше в них будет людей. И чем дальше эти группы будут друг от друга, тем больше в них людей останется. Короче, создадим архипелаг древнегреческих полисов. Как вам такая идея? А хотите, раздробленные княжества Руси? Пусть потом объединяют их, кто захочет, в Великую Подземную Русь! А что будет потом? Да что угодно! Что надо, то и будет! Ясно?
– Да! Так точно! – сказали Боб и Борода, а Рассказчик вздохнул.
– Похоже, это единственный способ спасти народ. Когда зерна остается мало и оно уже гниет, его надо раскатать, просушить и провеять, отделить плевелы, а потом только печь хлеба и засевать землю вновь.
– Не нам отделять плевелы, Рассказчик. Ограничимся малым. Не надо думать за весь народ. Думай о себе. И о ближнем. Этого вполне достаточно. А теперь главное, – вздохнул я. – Лучше сказать сейчас, чем никогда. Выхода отсюда, ребята, нет. Ни для кого. Думаю, вы уже догадались об этом. Выход есть, но он не выход. Какое-то время придется скитаться, господа. Может быть, и всегда! Все, братцы, по местам! Прощайте! Авось еще свидимся. Ничего, Боб, тяжело только первые сто лет. Спроси Брунегильду.
– И это друг! На какую жизнь ты обрекаешь нас?! – воскликнул Боб.
– На жизнь кастрата, Боб: сплошной процесс и никакого результата, – ответил за меня Рассказчик.
А Борода, совсем как в пошленьком фильме, с ревом вздернул кулак:
– Иы-есъ!
Я дал им всем последнюю надежду. Зачем? «Счастлив тот, кто свои надежды забирает в могилу». Кто сказал это? Зачем сказал? Кому, по какому поводу? Не вспомнить. Да не все ли равно, кто сказал? Почему я дорожу тем, что осталось там? Ведь оно уже не мое. Неужели все, что осталось там, и все, кто остались до поры до времени там, неужели будут дороги мне до скончания века? И вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я поднял голову. Высоко-высоко, в темном углу, на балке из лиственницы сидела какая-то косматая птица, сова или ворона, не разобрал, и, я чувствовал это, глядела на меня! Я помахал ей рукой. И стал спускаться по ступеням на землю. Я спускался и думал: «Все, все они будут со мной во веки веков!»
Господи! Я не кощунствую, позволь повторить сказанное: на кого ты меня оставил? Этот бесконечный путь по тусклому подземелью, где один только свет – надежда в глазах измотанных людей, да еще свет разума, остатки которого поддерживают меня и не дают сойти с ума, не дают быть по-человечески счастливым…
И я вспомнил свой полузабытый сон. Гляжу я ночью в темное зеркало, а из него глядит Рассказчик прямо мне в глаза. А у него в глазах я вижу Фаину, в глазах которой меркнет белый свет…
Нет-нет, в зеркале, конечно же, был не Рассказчик, и был не я, и Фаины там не было, просто я вспомнил вдруг, что жил на свете один бедный Филолог, и было у него одно двустишье: «Родился Марк и зашагал. Шагал, шагал и стал Шагал». И когда у него в горле от слов образовалась горечь, а на синем небе сверкали золотые звезды неоткрытого еще никем созвездия, он подумал: «В начале было слово, потом – слова, слова, слова…»
Не правда ли, жить – можно, и умереть – можно, и все это можно сделать кратко и выразительно, не обременяя окружающих.
Но при этом никогда не надо забывать, что бессмертным стать проще, чем это кажется. Стоит прожить половину жизни, и становишься бессмертным. «Земную жизнь пройдя до половины…» Тебе остается прожить еще четверть жизни, потом одну шестнадцатую часть, затем одну двести пятьдесят шестую – и далее бесконечно долго, по Зенону. Правда, каждый последующий миг будет все короче и короче и надо будет каждый раз прилагать все больше и больше усилий, чтобы прорваться сквозь него, как сквозь все возрастающий строй рыцарей. Прорвется прорывающийся. К чему? Быть может, к пылинке праха в конце. В конце концов, ведь бессмертен только прах, ибо прах ты и в прах возвратишься.
* * *
Автор хотел закончить роман этими словами. И сами слова, похоже, собирались разделаться этим с ним. Но нет!..
Нет и еще раз нет, не согласен! Они пойдут вперед радостно, как греки, как будто у них еще все впереди – целая новая история, а за ней – сверхновая, которые вспыхнут на их пути, как новые и сверхновые звезды, и затопят все подземелья светом.