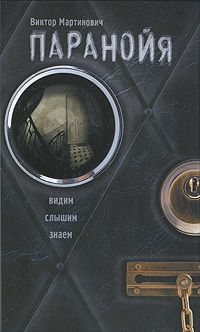Но ты не слушала – я опять заговорил о политике, и ты сначала ерзала головой по моей груди, укладывая свой миниатюрный профиль поудобнее на медвежье брюхо, затем повернулась лицом к ритуалам там, у стелы, и я видел лишь затылок, непослушный затылок выросшей вредной девчонки, и невозможно было понять, как ты относишься к тому, что слышишь. Постоянно мы напарываемся на эту политику, не говорить о ней, не говорить, но – глядя, как вздымалась и опускалась твоя голова вместе с моим дыханием, как поворачивалась чуть-чуть каждый раз, поворачивалась, намекая на какую-то точку там, впереди, точку, к которой намертво прикован взгляд, я почувствовал что-то, что что-то…
– Что-то случилось?
– Смотри, – ты говорила тихо и как-то интимно, совсем не той дикторской интонацией, с которой я только что рассуждал о духах. – Вон того, в гавайской рубашке, видишь?
И я – увидел – крупный мужчина сидел вполоборота перед нами, метрах в двадцати ниже по склону, и все пытался своим затылком, своими ушами ощупать нас, повернуться, и то и дело действительно поворачивался, бросая на нас быстрый взгляд. И эти короткие светлые волосы, почти не скрывавшие розовое мясо головы, эта невозможная рубашка, будто пытавшаяся заретушировать его деловитость, будто… И рядом, свернутая в трубочку, – газета, – ну кому здесь, на генеральной репетиции, может понадобиться газета?
– Так, – сказал я, не меняя позы. – Вижу. Ой, вижу!
– Ты ненароком не тайный заговорщик? Не подпольный террорист? За тобой никогда не ходили топтуны?
– Нет! Да нет же!
– Так вот можешь праздновать. Уже ходят. Я этого кабанчика еще в парке заметила. Не так часто видишь, как человек разговаривает со своей газетой. Что натворил, признавайся?
– Да послушай! За мной им совершенно незачем ходить.
– Да ну?
– А ты не допускаешь, что он – за тобой?
– Это легко проверить. Но мы – не будем. Он… – Ты вдруг приподняла голову и повернулась ко мне – я не мог понять выражения твоих глаз – они горели азартом или яростью, тебе как будто нравилось, что нас «пасут». – Он, он обещал мне, – ты выделила слово «обещал», – он обещал, что за мной никто и никогда ходить не будет. И здесь я ему верю. Если бы мы разошлись сейчас в стороны, этот бобик потопал бы за тобой, но. Но мы не станем разбегаться из-за каких-то шестерок в майорском звании. Ты готов?
– К чему?
– Готов?
– Готов, наверное.
– Тогда на счет три резко поднимаемся и бежим. За мной. Не отставая. Ты назначаешься замом по тылу. Будешь смотреть назад, двинул ли он за нами. Раз, два.
Не дождавшись «три», ты вскочила, мягко – я особенно восхитился этой твоей способности двигаться быстро, но очень плавно, как кошка, ты из кошачьих, это точно, и – пока я резко, дергано вставал, уже припустила, вырвавшись метров на десять вперед, и мне пришлось рвануть до хруста в сухожилиях, чтобы успеть за тобой. Ты бежала куда-то во дворы одинаковых кирпичных многоэтажек – тех самых, на которых Муравьев смотрел, по легенде, свое французское кино, и, нагнав тебя, я оглянулся и увидел, что альбинос встал и быстрым шагом идет за нами, идет и действительно разговаривает со свернутой в трубочку газетой, и ему нас не догнать при такой расторопности, и – этот хруст издает мой локоть, и ребра, и – как же больно – головой о тротуар – это бордюр – я налетел на него, разогнавшись, заглядевшись, и в глазах – темно, я ничего не вижу, и по виску течет теплое, – по мне что, стреляли? И ты уже тянешь меня вверх, и подставляешь плечо, и мы так, раненым четырехногим, ковыляем вперед, и зрение – как в кинозале, когда зажигают после фильма свет, – вернулось, я могу бежать дальше сам, только резко болит в боку, а эта рыжая, стриженая жопа невероятно разогналась для своих ста килограммов. До него уже меньше ста метров, а ведь казался жирным увальнем, карикатурой на американца, приехавшего на Гавайи в плановый отпуск, а там, под рубашкой, – наверняка сплошные мышцы, и он реально бежит прямо к нам, я пытаюсь сказать об этом тебе, но мы слишком разогнались, у меня уже вообще нет дыхания, и ты впереди метра на три, мне же больно, у меня же кровь на виске, а он – чешет, чешет, как танк, кажется, даже земля под ним трясется, он же, если честно, если без обиняков, – убьет меня голыми руками, сломает шею одним поворотом, этот бизон, и что ему от нас надо? Может быть, остановиться, вот как я, сейчас, сейчас, сейчас, – остановиться, развернуться к нему и, согнувшись, чтобы быстрей вернулось дыхание, пойти к нему, спросить – что надо, но ты уже вернулась ко мне, ты – лицо, нет, уже не горящее азартом, уже не яростное – испуганное, и крик, простой, на один выдох:
– Бляяааа!
И короткий удар себе по плечу – и я сразу все понимаю, понимаю, что нужно бежать дальше, а до него уже пятьдесят метров, я вижу, что значит этот удар по плечу, – ты показываешь, что у него явственно топорщится под рубашкой, от плеча и ниже, это закрывалось свободной, чересчур свободной рубашкой, но сейчас, когда этот танк разогнался, рубашка облепила его тело, и да – кобура, и черт знает что он собирается делать с пистолетом в ней, и твое «Бляяааа!» значит, что нужно бежать, что мы не знаем его намерений, а поэтому – руки в ноги, и, судя по интонации этого «Бляяааа!» – осталось уже немного – немного до чего-то, чего-то спасительного, и – снова на подкашивающиеся распорки ног, на эти негнущиеся ходули, и – со всех сил за тобой, и заносит – ноги уже устали, и все лицо в слюне – я очень давно не бегал, а ты уже очень далеко, ты – я знаю, меня не оставишь, но все равно – так далеко! Я рванул из последних сил, уже – признаюсь тебе честно – сдаваясь, уже готовый, ладно, черт с ним, получить пулю, вступить в убийственную для меня драку, я уже даже темп сбавлял, когда в глубине двора мелькнула двумя багровыми огнями какая-то громада – черная, как сама темень двора, и я услышал мощное чваканье открывшейся двери – там машина, и так быстро и неожиданно оказался рядом, а ты уже крутила ключ в зажигании, колотя, истерично колотя еще неживой педалью газа по полу, и джип – чернющий, еще более громадный, чем тот снежно-белый Lexus Rx 470, рванул вперед, и моя незакрытая дверь с грохотом танкового выстрела саданула по пискнувшей дворовой машине, и смяла ее, кажется, от задницы до капота, и закрылась, едва не оттяпав мне руку.
Мы набирали скорость – вела ты очень небрежно, но очень быстро, – подцепили боком мусорные баки, сгребли чересчур высунувший задницу в проезд мотоцикл, протянули за собой и саданули его об еще одну машину-дворнягу, и вокруг был рев потревоженных сигнализаций, а на спидометре было восемьдесят, а ехали мы по узенькому, заставленному машинами двору, и нас подбросило – ты цапнула колесом бордюр, и кинуло обратно вниз, с легким заносом, и двор, длинный, как коридор в морге, закончился прямо в перекресток, и, обращенный к нам, явственно и безапелляционно горел красный свет, и в трехстах метрах ниже по проспекту переливался салатовым жилетом гаишник, которых всегда выставляли в немереных количествах охранять репетицию. И ты выскочила на красный прямо под колеса – даже не одной машины, а целого потока, и нажала что-то под рулем, и джип издал рев сирены, и гаишник должен был припухнуть с такой наглости – ты летела прямо на него, ему пришлось даже отступить на тротуар, и его рука с палочкой пошла вверх – он сейчас махнет нам и, когда ты не остановишься, – прыгнет в машину и понесется нам вслед с красным проблесковым, а если мы не остановимся (а мы не остановимся!) – применит табельное оружие по колесам, что, с учетом нашей скорости, введет нас в ступор, завалит машину на бок, и что же, черт побери, он делает?