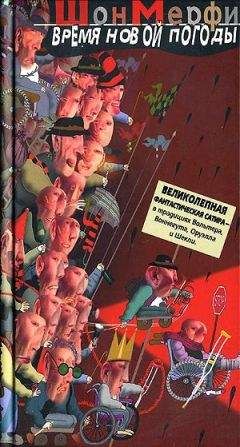В конце концов Хьюберт пришел к выводу, что это оказалось самым странным и вызывающим раздражение поручением, какое когда-либо выпадало на его долю за многие годы работы в правительстве.
«Ну что ж, – думал он, расправляя плечи и спускаясь с шоссе на набережную (он направлялся к довольно скромному каменному мосту, пересекавшему реку к югу от огромного каменного памятника, известного под названием «Столб Вашингтона»), – за это-то мне и платят большие бабки».
Хьюберт переместил тяжелую корзину с левого плеча на правое, издав при этом усилии негромкий стон, – он никогда и представить себе не мог, какой тяжелой бывает корзина сэндвичей с арахисовым маслом, если приходится таскать ее день за днем, – и, скользя, спустился с последнего участка набережной. К своему удивлению, он обнаружил, что здесь поразительно чисто: никакого мусора, и даже какие-то цветочки растут.
Место под этим мостом тоже казалось необыкновенно спокойным и тихим. Хьюберту был слышен только один звук – шум машин, проезжавших между бетонными опорами. Вероятно, подумал Хьюберт, мост находится слишком близко от Столицы, а значит, близко и от полиции, и от других агентов правительства, так что никто и не захотел здесь поселиться. Впрочем, размышлял он, это, скорее всего, просто стремление с его стороны принять желаемое за действительное. Сегодня он не очень-то в настроении подвергаться преследованию или физическим нападкам и весьма не прочь отдохнуть от этого хотя бы денек. В конце концов, из посещенных им семидесяти трех мостов он ни одного незаселенного еще не обнаружил: Седьмая Депрессия бушует вовсю, любое прибежище, каким бы примитивным оно ни было, ценится выше номинала.
– Привет вам, Жители Подмостья! – выкрикнул Хьюберт во тьму свое фирменное приветствие.
Ни звука в ответ не раздалось.
– Привет! – снова прокричал он.
Тишина.
Но по мере того как его глаза привыкали к темноте, он сначала разглядел одну фигуру, потом еще и еще: рассеянные во мраке, они сидели в странных позах меж мостовых опор и на земле, у их подножия. Когда глаза его еще больше привыкли к темноте, он увидел десятки таких фигур: у всех глаза были широко раскрыты, все были абсолютно неподвижны, никто не произносил ни звука. Зрелище могло бы показаться совершенно жутким, но вся сцена дышала таким спокойствием, что Хьюберт почувствовал себя увереннее.
Он прочистил горло и снова крикнул:
– Привет! – будто обращался к первому отряду инопланетян, явившихся на нашу планету. – Я принес сэндвичи с арахисовым маслом!
Никакого ответа. Реальны ли эти люди? Или все обстоятельства этого эксперимента сговорились свести его с ума?
Хьюберт начал снова:
– Я принес вам…
– Вы сказали – с арахисовым маслом? – С этими словами одна из фигур во тьме пошевелилась.
– С арахисовым маслом, – подтвердил Хьюберт, крепко держа корзину – на тот случай, если они затеют что-нибудь неожиданное.
Теперь уже десять или двенадцать молчаливых фигур двинулись к нему. «В том, как они двигаются, есть что-то странное», – подумал Хьюберт, и, когда они вышли на свет, он понял, в чем дело. Казалось, им всем присуща какая-то особая гибкость, пластичность, телесная легкость, в отличие от шарканья и прихрамывания, которых он привык ожидать от людей, живущих в таких местах. И не только это. Их глаза, во всяком случае, у тех, кто был достаточно близко, чтобы он мог их рассмотреть, сияли необычайно ярко – раньше ему очень редко приходилось встречать такое.
Хьюберт осторожно протянул корзину вперед, несколько напуганный тем, как выглядели эти собиравшиеся вокруг него люди.
– Вы можете получить столько сэндвичей, сколько захотите… если только сумеете взять их, не пользуясь руками.
В ответ на это предложение из группы собравшихся раздался глубокий, звучный, спокойный голос, прозвучавший как-то совершенно непринужденно:
– Тогда, пожалуйста, передайте их нам, не пользуясь СВОИМИ руками.
Говоривший выступил вперед. Он был высок, строен, неопределенного возраста, с глазами, как показалось Хьюберту, ясными, как само небо, а голову его венчала буйная – иначе не скажешь – копна седовато-каштановых волос.
Хьюберт не осознавал, что затаил дыхание, но он действительно не дышал, и никто не мог бы сказать, как долго. Наконец, совершенно неожиданно, он издал длинный, вполне внятный вздох:
– Должно быть, вы – Биби Браун?!
– А вы, – сказал Биби, – должно быть, один из тех правительственных типов, которых мне удавалось избегать все эти годы.
Он вздохнул, и на миг – вероятно, это была просто игра света – Хьюберту показалось, что его тело замерцало и стало почти прозрачным.
– Тем не менее, – продолжал Биби, – думаю, я ожидал вас. Мой дядя Отто говорил, чтобы я не появлялся на публике по меньшей мере лет десять. Поживи где-нибудь под мостом, говорил он. Стань совсем обыкновенным. Потом выйди и начни помогать людям. – Биби обернулся и крикнул в тень под мостом: – Эй, Дестини!
– Да? – раздался из-под моста голос.
– Сколько лет уже прошло – к сегодняшнему дню?
– Я сказала бы, пятнадцать или около того.
Еще одна фигура появилась из-под моста – одна из самых примечательных человеческих фигур, какую когда-либо видел Хьюберт П. МакМиллан. С головы до ног ее тело было покрыто сетью шрамов, следов ушибов и других знаков, повествующих о жизни, полной несчастий и боли.
– Я думаю, – продолжала Дестини, – мы запаздываем.
– Это – Дестини, – сказал Биби Браун. – Моя праворучная женщина.
Хьюберт был в замешательстве.
– Праворучная женщина? – спросил он. – А что за операцию вы здесь под мостом проводите, вообще-то говоря? И кто такой Отто?
Биби откусил кусок сэндвича, который стащил из корзины, когда Хьюберт отвлекся. Он с наслаждением облизывал пальцы.
– Мы тут просто занимались прочищением мозгов, упражнения всякие делали, – ответил он с набитым ртом, полным арахисового масла. – Хотите присоединиться?
18. Самое грандиозное шоу на Земле
Бадди любил цирк за его запахи: за характерную, хорошо узнаваемую смесь опилок, свежего сена, слоновьего навоза, за затхлый душок, издаваемый пурпурно-полосатым шатром, когда его устанавливают, за острый запах пота, исходящий от рабочих. Он любил цирк за его звуки: трубный хор из слоновьего стойла, рыканье огромных кошек, ржание лошадей и рев мулов, приветствовавших приход зари. И он любил цирк за его зрелищность, за калейдоскопический, фантасмагорический спектакль, каждый вечер разворачивавшийся на арене под большим шатром: усыпанные золотыми и серебряными блестками костюмы акробатов на трапеции, крутящееся смешение полос и клеток Летучих Братьев Фердыдурке, гигантские красные носы и невероятные ступни клоунов – зрелище чистейшей воды, щедрое и радостное, истинное служение чуду. И вовсе не преувеличение, часто думал Бадди, называть это Самым Грандиозным Шоу на Земле.