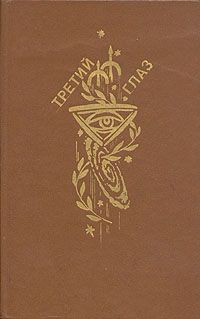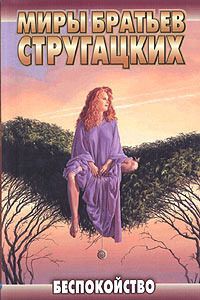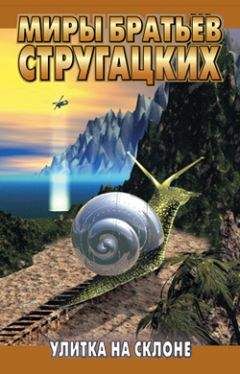— В битву вступают всё новые… — металлическим голосом бредил Слухач. — Победное передвижение… обширные места покоя… новые отряды подруг… спокойствие и слияние…
Атос пошёл дальше. Сегодня с утра голова его была довольно ясной, он почувствовал, что может думать, и подумал, что вот этот бред Слухача — это, наверное, одна из древнейших традиций этой деревни и всех деревень, потому что в Новой деревне тоже был свой слухач, и старик как–то хвастался, какие слухачи были, когда он был ребёнком; можно было представить себе времена, когда многие знали, что такое Одержание, когда ОНИ были заинтересованы в том, чтобы многие знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без этих многих — когда научились управлять лиловым туманом и из лиловых туч вышли первые мертвяки, и первые деревни очутились на дне первых треугольных озёр, и возникли первые отряды подруг. А традиция осталась, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и Города, откуда идёт разрушение и где никто не знает, что оно такое, но согласны, что оно необходимо и полезно; бессмысленная, как бессмысленна всякая закономерность, наблюдаемая извне спокойными глазами естествоиспытателя… Атос обрадовался: ему показалось, что он, наконец, сумел связно сформулировать всё это… и, кажется, не просто сформулировать, но и определить своё место… Я не во вне, я здесь, я не естествоиспытатель, я сам частица, которой играет эта закономерность.
Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Наверное, уж много веков тысячи Слухачей в тысячах деревень, затерянных в лесах огромного континента, выходят по утрам на пустые теперь площади и бормочут непонятные, давным–давно утратившие всякий смысл фразы о подругах, об Одержании, о слиянии и покое; фразы, которые передаются тысячами каких–то людей из тысяч Городов, где тоже забыли, зачем это надо и кому.
Кулак неслышно подошёл к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.
— Встал тут и глазеет, — сказал он. — Один вот тоже глазел–глазел, переломали ему руки–ноги — больше не глазеет. Когда уходим–то, Молчун? Долго ты мне голову будешь морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старик уже жрать не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя всё, не то что жрать — нюхать невозможно… Только к Чёртовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобою в Город, наберём мы там с тобой баб, если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, а другую половину в деревню приведём, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна тоже вот плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может… Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город или привиделось тебе, отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере — все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, мы же там все потонем, там же вода, мало ли что там бабы, я в воду даже за бабами не полезу, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу, в крайнем случае, на берегу стоять, пока ты их из воды тащить будешь… Ты, значит, в воду полезешь, а я на берегу останусь, и мы с тобой эдак быстро управимся…
— Дубину ты себе сломал? — спросил Атос.
— А где я тебе в лесу дубину возьму? — возразил Кулак. — Это на болото идти надо — за дубиной. А у меня времени не было, я еду стерёг, чтобы старик её не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь… Один вот тоже дрался…
— Ладно, — сказал Атос. — Я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим.
Он повернулся и пошёл обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли, а может быть, ничему не поверили. Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно. И начала надвигаться слишком давно. Может быть, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, катастрофой, сиюминутностью. Они не умели обобщать, они не умели думать о мире вне своей деревни. Была деревня и был лес. Лес был сильнее, но лес всегда был и всегда будет сильнее. При чём здесь гибель? Такова жизнь. Когда–нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин, когда болота подойдут вплотную к домам, когда посреди улиц ударят подземные источники, и деревня начнёт погружаться под воду… Впрочем, может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить», — и уйдут в Новую деревню…
Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.
— Садись, — сказал он Атосу приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.
— Поем, — сказал Атос и сел рядом.
— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы у тебя теперь нету, когда ещё без Навы приспособишься… Я слыхал, ты опять уходишь… Что это тебе дома не сидится? Сидел бы дома, хорошо бы тебе было. В Тростники идёшь или в Муравейники? В Тростники бы я тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, перешли бы через редколесье, там бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродило, там же и поели бы, хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже, ешь–ешь, и всё мало… А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы опять поели, хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте и такие злаки произрастают… Ну а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и Тростники…
— Мы с тобой идём к Чёртовым Скалам, — терпеливо напомнил Атос. — Послезавтра выходим. Кулак тоже идёт.
Колченог с сомнением покачал головой.
— К Чёртовым Скалам… — повторил он. — Нет, Молчун, к Чёртовым Скалам нам не пройти. Это ты знаешь, где Чёртовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: скалы, мол, Чёртовы… Так что к Чёртовым Скалам я не пойду: не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или ещё лучше в Муравейники, это тут рядом, рукой подать… Слушай, Молчун, а пошли–ка мы с тобой в Муравейники, и Кулак пойдёт… Я ведь в Муравейниках как ногу себе сломал, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, всё просила меня: сходим, Колченог, в Муравейники, охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу сломал, а я ей говорю, что я не помню, где это дупло, и вообще, может, Муравейников больше теперь нет, я там давно не был…
Атос жевал гриб и смотрел на Колченога. Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Атоса. И Атосу вдруг пришло в голову, что Колченог только с ним говорит так — как слабоумный, не способный сосредоточиться на одной мысли, что вообще–то Колченог хороший спорщик и видный оратор, и с ним считается и староста, и Кулак, а старик просто боится его и не любит, и что Колченог был лучшим приятелем и спутником известного Обиды–Мученика, человека беспокойного и ищущего, ничего не нашедшего и сгинувшего где–то в лесу… И тогда Атос понял, что Колченог просто не хочет пускать его в лес, боится за него и жалеет его, что Колченог просто добрый и умный человек, но лес для него — это лес, опасное место, гибельное, куда многие ходили да немногие возвращались, и если уж полоумному Молчуну удалось один раз вернуться, потеряв там девочку, то дважды таких чудес не случается…