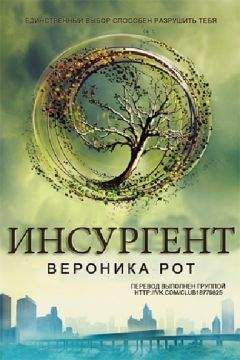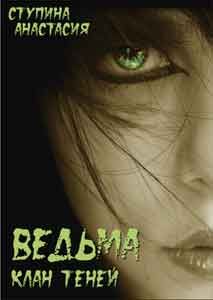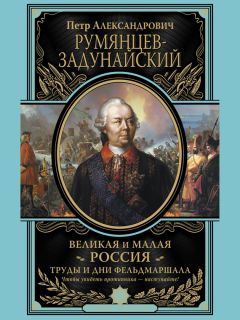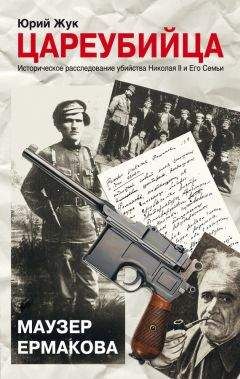— Ты в порядке? — спрашивает Юрай, выходя из толпы и касаясь моего плеча. Я не видела его с момента атаки, но не нахожу в себе сил даже на приветствие.
— Да.
— Эй, — он сжимает мое плечо. — Ты сделала то, что должна была, не так ли? Чтобы спасти нас от Эрудитов и рабства. Со временем она поймет. Когда горе утихнет.
У меня нет сил даже на то, чтобы просто кивнуть. Юрай улыбается мне и уходит. Некоторые Бесстрашные задевают меня, бормочут слова, похожие на благодарность, комплименты или одобрение. Другие обходят меня, щурясь и бросая подозрительные взгляды.
Тела в черном сливаются в единое пятно. Я пуста. Все вышло наружу.
Тобиас стоит рядом со мной. Я готовлюсь к его реакции.
— Мне вернули оружие, — говорит он, отдавая мой нож.
Я пихаю его в задний карман, не глядя Тобиасу в глаза.
— Мы можем поговорить об этом завтра, — тихо предлагает он. С Тобиасом тишина опасна.
— Хорошо.
Он скользит рукой по моим плечам. Моя рука находит его бедра, и я притягиваю его к себе.
Я крепко обнимаю его, пока мы вместе идем к лифту.
Он находит для нас две койки где-то в конце коридора. Наши головы лежат в нескольких сантиметрах друг от друга, мы молчим.
Убедившись, что он спит, выскальзываю из-под одеяла и прохожу по коридору мимо десятков спящих Бесстрашных. Нахожу дверь, ведущую к лестнице.
Пока поднимаюсь, шаг за шагом, мои мышцы начинают гореть, легкие сражаются за воздух, и я впервые за целые сутки чувствую облегчение.
Может быть, я хорошо бегаю по ровной поверхности, но ходьба вверх по лестнице совсем другое дело. Оказавшись на двенадцатом этаже, пытаюсь восстановить дыхание и массирую бедро, которое свело во время подъема. Улыбаюсь, чувствуя боль в ногах и груди. Использование боли для облегчения боли. Бессмыслица.
Достигнув восемнадцатого этажа, чувствую себя так, словно мои ноги превратились в жидкость. Волочусь в комнату, где меня допрашивали. Сейчас она пуста, но скамейки, как в амфитеатре, все еще там, и стул, на котором я сидела, тоже. Луна сияет за дымкой облаков.
Я кладу руки на спинку стула. Он простой: деревянный, немного скрипучий. Как странно, что нечто настолько простое смогло сыграть столь важную роль в моем решении погубить одни из самых важных для меня отношений и навредить другим.
Плохо не столько то, что я убила Уилла, а то, что я не сумела достаточно быстро принять другое решение. Сейчас я должна жить с тем, что все будут меня осуждать, помимо меня самой, и с осознанием того, что ничто — даже я сама — больше не будет прежним.
Искренний воспевает правду, но он никогда не признается, чего это стоит.
Край стула врезается в ладонь. Я сжала его сильнее, чем думала. Смотрю на него в течение секунды, затем поднимаю и, держа за ножки, закидываю себе на здоровое плечо. Ищу край комнаты, где были бы ступеньки или лестница, что-нибудь, что помогло бы мне подняться. Все, что я вижу, это скамейки, возвышающиеся высоко над полом.
Подхожу к самой высокой скамье и поднимаю стул над головой. Он едва касается выступа одного из окон. Я прыгаю, толкая стул вперед, и он скользит по карнизу. Плечо болит — мне, правда, не стоит напрягать свою руку, но у меня свое мнение по этому поводу.
Я прыгаю, хватаюсь за выступ и подтягиваюсь, руки трясутся. Забрасываю ногу и тащу себя вверх, забираясь на выступ. Оказавшись наверху, целую минуту просто сижу, вдыхая и выдыхая воздух.
Я стою на выступе под аркой, которая раньше была окном, и смотрю на город. Мертвая река петляет вокруг здания и исчезает. Мост, выкрашенный красной краской, возвышается над грязью. На другой его стороне располагаются здания, многие из них пусты. Трудно поверить, что когда-то в городе проживало достаточно людей, чтобы их заполнять.
На секунду позволяю себе вернуться в воспоминание о допросе. Отсутствующее выражение на лице Тобиаса, его злость, подавляемая лишь из-за моего присутствия. Пустой взгляд Кристины. Шепот "Спасибо за вашу честность". Мое признание никак не отразилось на них.
Я хватаю стул и швыряю его над выступом. Из моего рта вырывается слабый вскрик. Он вырастает в крик, который превращается в вопль, и затем я стою на выступе, крича, пока стул летит к земле, крича, пока мое горло не начинает гореть. Стул падает на землю, рассыпаясь, как хрупкие кости скелета. Сажусь на выступ, прислоняюсь к оконной раме и закрываю глаза.
Я думаю об Але.
Мне интересно, как долго Ал стоял на краю до того, как бросится в Яму Бесстрашных.
Он, должно быть, стоял там в течение долгого времени, составляя список всех ужасных вещей, которые он сделал: одной из них была угроза моей жизни. И другой список — всех хороших, героических, храбрых вещей, которые он не сделал, после чего он решает, что устал. Устал не только от жизни, но и от существования. Устал быть Алом.
Я открываю глаза и смотрю на едва различимые останки стула на тротуаре. Впервые чувствую, что понимаю Ала. Я устала быть Трис. Я совершила множество ужасных вещей. Я ничего не могу изменить, они стали моей частью. По большому счету, они, похоже, единственное, чем я являюсь.
Наклоняюсь вперед, высовываюсь наружу, держась за окно. Еще несколько дюймов и мой вес потянет меня к земле, я не смогу этому препятствовать.
Но не могу сделать этого. Мои родители погибли из любви ко мне. Моя смерть без уважительной причины была бы худшим способом отблагодарить их за эту жертву, независимо от того, что я сделала.
— Пусть вина научит тебя, как вести себя в следующий раз, — сказал бы мой отец.
— Я люблю тебя. Несмотря ни на что, — сказала бы моя мать.
Часть меня хотела бы выжечь их из моей памяти, чтобы мне никогда не пришлось их оплакивать. Но другая моя часть боится той, кем бы я стала без них.
Когда я вталкиваю себя обратно на выступ, в глазах мутно от слез.
Я возвращаюсь в кровать ранним утром, Тобиас уже проснулся. Он разворачивается и идет к лифтам, я следую за ним, так как знаю, что он этого хочет. Мы стоим в лифте, бок о бок. Я слышу звон в ушах.
Лифт опускается на второй этаж, и меня начинает трясти. Дрожь рождается в ладонях, переходит к рукам и груди, пока маленькие мурашки не проходят через все мое тело, я ничего не могу с этим поделать. Мы стоим между лифтами прямо над другим символом Искренности — неравными весами. Символ, изображенный на середине его спины.
Долгое время он не смотрит на меня — стоит, скрестив руки и опустив голову, до тех пор, пока я не ощущаю, что больше не могу так стоять, пока не чувствую, что вот-вот закричу. Я должна что-нибудь сказать, но не знаю что. Я не могу извиниться, потому что я говорила только правду, я не могу поменять правду на ложь и не готова оправдываться.