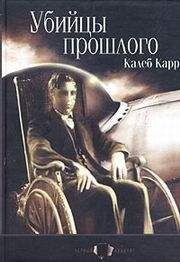— Думаете, что ему нужна помощь психиатра? — Вопрос звучал странно, но, казалось, был задан совершенно искренне.
— Нет, я имел в виду не это, — ответил я. — Но я все же врач, и могу распознать хроническую боль, когда ее вижу. И потом, Лариса поведала мне его… историю.
— Вот как? — Глаза Слейтона сузились. — Ну, раз уж вы в курсе дела, то должны понимать, что никто, и вы в том числе, не в силах помочь ему. Болеутоляющее и отдых — вот и все, что ему остается.
— Ясно, что с лекарствами проблем у него нет, — сказал я, обнаружив брешь в его рассуждениях. — Но отчего он так мало отдыхает?
Уголок рта полковника дернулся и на его лице появилось что-то похожее на улыбку.
— Хороший вопрос, доктор, — сказал он. — Но я не могу на него ответить — и никто из нас не может. По той простой причине, что никто из нас — и даже Лариса — не знает, что за работа лишает его сна.
— Ясно. — Оглядев комнату, я осведомился: — А вас?
Призрачная улыбка начала обретать реальные очертания.
— Мы с Ионой собираем и устанавливаем новый голографический проектор для корабля. Он позволит нам передвигаться невидимо и избегать неприятностей вроде тех, что были во Флориде.
— А это возможно?
Слейтон утвердительно наклонил голову.
— В Пентагоне мы подошли довольно близко к созданию этой штуки. Малкольм считает, что он лишь проработал детали.
— О, — я продолжал гнуть свою линию, сделав легкий отвлекающий маневр. — Но ведь это… это все же не объясняет все, что здесь происходит? — я указал на экраны.
Не знаю, какого ответа я ожидал, задавая столь прямой вопрос, но реакция полковника застала меня врасплох. Слейтон добродушно рассмеялся и подвинул мне свободный стул.
— Садитесь, доктор, и я все объясню, — сказал он. — Раз уж наш план целиком зависит от вас…
Я присел рядом с полковником, и он продолжил:
— В некоторых церковных и монашеских орденах до сих пор практикуется самобичевание. Вы, доктор, полагаете, что это извращение?
— Это крайность, — отозвался я, вместе с ним глядя вверх, на мониторы. — Но не извращение. А как насчет вас, полковник? Неприятные свет и звуки заменяют вам хлыст?
— Отчасти в некотором роде так оно и есть, — ответил Слейтон с откровенностью, столь же впечатляющей, как и все остальное в этом человеке. — Большую часть моей жизни, доктор, весь этот мир, — он махнул рукой на экраны, — был пустыней, где я странствовал, сражаясь за то, чтобы обратить туземцев-язычников в демократическую веру. Пока не… — он вдруг утерял нить беседы, но взял себя в руки и закончил, — …одно дело узнать, что твой бог — лишь колосс на глиняных ногах. И совсем иное — понять, что его ноги в крови, и это кровь не только твоих врагов, но и твоих друзей, и ты сам — соучастник их убийства. И понять при этом, что ты сам — соучастник их убийства. Соучастник из-за собственного недомыслия…
Я увидел, что в его глазах вновь закипели слезы, и заторопился:
— Полковник, вы вспоминаете тайваньскую кампанию. Но вы не можете…
— Босния, Сербия, Ирак, Колумбия и да, еще Тайвань, — перебил он меня, — да любое из полудюжины других мест, где я убивал и посылал своих ребят на смерть во имя свободы. Можете ли вы себе представить, каково было обнаружить, что единственная свобода, которая на деле интересует мое начальство, — это свобода их богатеньких хозяев проворачивать сделки в этих странах? Я не дурак, доктор Вулф. По крайней мере, не хочу считать себя дураком. Отчего я раньше не понимал этого, абсолютно не понимал? Международные торговые союзы и военные альянсы, чьи полномочия мы обеспечивали, — разве они избавили хоть кого-нибудь от тирании, эксплуатации или неравенства, как это было обещано? Принесли ли они настоящую свободу хоть одной несвободной стране?
Слейтон затряс в воздухе сжатым кулаком.
— А мы по-прежнему подчиняемся. Льем ради них кровь наших врагов и шлем на смерть наших солдат. Тогда, на Тайване, стало ясно, что мы оказались там лишь затем, чтобы там и сдохнуть, и что Вашингтон вовсе не собирался препятствовать Пекину захватить власть, и что на самом деле они были союзниками коммуно-капиталистов. Я не выступал в защиту правительства Тайваня тогда, доктор, и не выступаю сейчас — но почему мои войска гибли за этот циничный союз? И, самое главное, — его грудь тяжело вздымалась, — почему я не увидел этого?
Я пожал плечами: не было смысла отделываться необязательными словами. И тихо произнес:
— Mundus vult decipi.
Он снова улыбнулся беглой улыбкой.
— Спасибо, доктор.
— Простите?
— Я совершенно серьезен. Спасибо, что не стали снисходительно утешать меня фальшивыми рацеями. Да, каждый хочет быть обманутым. Хотел этого и я. Мне хотелось верить всему, что мне рассказывали в детстве на школьных уроках. Когда мой отец вернулся домой из Персидского залива в пластиковом мешке и мы похоронили его на Арлингтонском кладбище, мне хотелось верить, что эта война не была дракой за нефть. Гены, унаследованные от раба-африканца, говорили, что я идиот, но я не слушал. Я объявлял войну любой попытке раскрыть мне глаза на обман. А потом, на Тайване… все это рухнуло. Ко времени, когда меня взяли на работу в Пентагон, я был призраком — одним из тех, кто, будучи обманут, теперь учился обманывать сам. И я бы остался призраком, если бы не встретил Малкольма. И даже сейчас, когда я в этой команде, мне все равно чего-то недостает. — Он повернулся ко мне, его лицо было исполнено решимости. — И вы, доктор, можете помочь мне найти это «что-то». Захваченный врасплох, я спросил:
— Почему я?!
Слейтон встал и принялся расхаживать по комнате.
— Психология и американская история, доктор. Мне нужен эксперт. — Он скрестил руки на груди и крепко сжал их. — Думаю, вы удивитесь, если я скажу, что приложил немало усилий, чтобы заполучить вас в команду.
Изумленный, я едва не рассмеялся.
— Допускаю, что так и было.
— Убедить их было нетрудно, особенно после того, как они прочли вашу книгу, — Слейтон взял в руки лежащий на приборной панели экземпляр "Психологической истории США" и принялся листать ее, — и увидели вашу фотографию, — продолжил он тоном проницательного родителя, не слишком одобряющего занятия своего чада. — Он нашел нужную страницу и принялся вчитываться в текст, затем пораженно посмотрел на меня. — Вы действительно считаете, что смерть матери Джефферсона повлияла на написание Декларации Независимости?
Для ответа я подбирал слова куда тщательней, чем когда писал книгу.
— Близость этих событий по времени всегда вызывала ощущение, что их последовательность неслучайна. Отношения Джефферсона с матерью были, по общему мнению, весьма сложными.