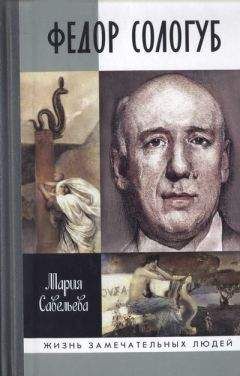— Посидите. Поговорим.
В то же время откуда-то из темного угла вышел тихий мальчик в белой одежде. Он стал за креслом Триродова, и смотрел на Острова. Его черные широкие глаза на бледном лице наводили на Острова жуткий страх. Остров мешковато опустился в кресло у письменного стола. Голова его закружилась. Потом странное чувство безразличия и покорности охватило его. На лице его изображалась тупая готовность сделать все, что прикажет кто-то сильный, вдруг овладевший его волею. Триродов внимательно посмотрел на Острова, и сказал:
— Ну, рассказывайте. Вот вы сами мне сообщите сведения о том, что вы здесь делаете, и в чем вы здесь участвуете. Многого сделать вы не успели, но кое-что узнали. Говорите.
Остров как-то глупо хихикнул, дернулся, как на пружине, и сказал:
— Хорошо-с. Совершенно бесплатно расскажу вам кое-что весьма интересное.
Триродов, не спуская с лица Острова тяжелого, пристального взора, повторил:
— Говорите.
Тихий мальчик не отводил от глаз Острова упорно-вопрошающего взора.
— Знаете, кто убил полицмейстера? — спросил Остров.
Триродов молчал. Остров говорил, все так же бессмысленно хихикая и подергиваясь всем телом.
— Убил, и ушел. Скрылся, пользуясь замешательством окружающих и темнотою, как об этом выражаются в газетах. Полиция его не поймала и до сих пор, и начальство не знает, кто он.
— А вы знаете? — холодным, размеренным тоном спросил Триродов.
— Знаю, да вам не скажу, — злобно сказал Остров.
— Скажете, — решительно сказал Триродов.
И еще решительнее, громким и повелительным голосом сказал:
— Говорите, кто убил полицмейстера!
Остров отвалился на спинку кресла. Красное лицо Острова покрылось серым налетом бледности. Налившиеся кровью глаза его полузакрылись, как у брошенной полулежа куклы с заводом в животе. Остров сказал вяло, как неживой:
— Полтинин.
— Ваш друг? — спросил Триродов. — Ну, дальше говорите.
Остров говорил так же вяло:
— Вот теперь его ищут.
Триродов продолжал спрашивать:
— Зачем Полтинин убил полицмейстера?
Остров глупо хихикнул, и говорил:
— Тончайшая политика! Так, значит, надо. А для чего, этого я вам не скажу. При всем желании не могу. Сам не знаю. Только догадываться осмеливаюсь. А что же могут значить наши догадки?
— Да, — сказал Триродов, — вы этого, пожалуй, и не можете знать. Дальше рассказывайте.
— Теперь это самое дело, — говорил Остров, — для нас очень доходная статья. Прямо — статья в бюджете.
— Почему? — спросил Триродов.
На лице его не было заметно удивления. Остров говорил:
— Есть у нас такой теплый человек, Поцелуйчиков.
— Вор? — коротко спросил Триродов.
Остров усмехнулся почти сознательно, и говорил:
— Вор не вор, а плохо не клади. Человек строгий на этот счет.
Глаза Острова приняли откровенно-наглое выражение. Триродов спросил:
— Какое же у него отношение к этой вашей статье дохода? Остров объяснил:
— А мы его посылаем к местным богатеям.
— Шантажировать? — спросил Триродов.
Остров с полною готовностью отвечал:
— Вот именно. Приходит он, скажем, к толстосуму. Имею, говорит, к вам дело по секрету, большого лично для вас интереса. Оставшись же с негоциантом наедине, говорит, — пожалуйте пятьсот рублей. Тот, известно, на дыбы, — как так? за что такая прокламация? А так-с, говорит. За то за самое. Иначе, говорит, вашего сынка-первенца в тюрьму засажу, ибо могу доказать, что ваш сынок-первенец имеет касательство к убиению доблестного полицмейстера.
— Дают? — спросил Триродов.
— Кто дает, кто выпроваживает, — отвечал Остров.
Триродов сказал презрительно.
— Милая компания! Что же вы еще замышляете?
С тем же безвольным послушанием Остров рассказал Триродову, что в их компании замыслили украсть чудотворную икону из соседнего монастыря, сжечь ее, а драгоценные камни, которыми она осыпана, продать. Дело это трудное, потому что икону берегут. Но друзья Острова рассчитывают воспользоваться одним из летних праздников, когда монахи, проводивши именитых богомольцев, подопьют изрядно. Таким образом, на приготовления к этой краже у воров остается больше месяца, это время они намерены использовать на то, чтобы втереться в дружбу к монахам и хорошенько ознакомиться с обстановкою.
Триродов молча выслушал все это, потом сказал Острову:
— Забудьте, что вы мне все это рассказывали. Прощайте.
Остров встрепенулся. Он казался точно вдруг проснувшимся. Не понимая причин своего тягостного смущения, он неловко распрощался и ушел.
Триродов думал, что необходимо предупредить здешнего епархиального епископа о готовящейся краже чудотворной иконы.
Епископ Пелагий жил в том же монастыре, где хранилась чтимая народом икона Божией Матери. В том же монастыре покоились мощи святого старца. К этим святыням на поклонение шли с разных концов России. Поэтому монастырь считался богатым.
Триродов долго думал о том, каким способом известит епископа Пелагия о замышленной краже. Сделать это посредством безымянного письма Триродову было противно. Сказать об этом епископу лично или написать от себя было бы лучше. Но тогда явился бы вопрос, откуда сам Триродов узнал об этом замысле. Ведь может случиться, что его самого заподозрит кто-нибудь в соучастии с преступниками. И без того здешние горожане смотрели на Триродова косо.
Страшно ему было опять впутываться в темную историю. Уже досадовал он на себя за это странное любопытство, которое заставило его расспрашивать о чужих делах Острова. Лучше было бы совсем не знать о преступном замысле. Промолчать же о готовящейся краже Триродов не видел никаких оснований. Он думал, что темные стороны монашеской жизни не могут оправдать злого дела, замышленного товарищами Острова. Притом же последствия этого дела могли быть очень опасны.
Триродов наконец решился ехать в монастырь. На месте, — думал он, виднее будет, как осведомить епископа. Но эта поездка была ему так неприятна, что он долго откладывал ее.
Триродов понял, что он полюбил Елисавету. Он знал это чувство, сладкую и мучительную влюбленность. Опять оно пришло, и снова расцветило ярко весь мир. А на что он, этот мир, широкий и вечно недоступный, полный воспоминаниями о пережитом, — О пережитых? Но полюбить ее, полюбить Елисавету, — это и значит — полюбить и принять мир, весь мир.
Смущало Триродова это чувство. К недоумениям прошлого, еще не сбытого с плеч, — и настоящего, начатого по странному наитию и еще не взвешенного, присоединялось недоумение будущего, новой и неожиданной связи. И самая любовь — не средство ли осуществлять мечты?