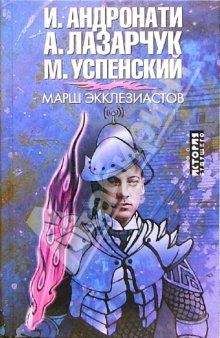— А ещё я перелагаю в стихи медицинские рецепты против геморроя и водянки…
— Так ты ещё и табиб?
— Всего помаленьку, — скромно сказал монах. — Немного бродяга, немного лекарь, немного пиита…
— Немного мошенник, — подхватил Абу Талиб. — Истинный сын Сасана, страж Ирема! Будет у нас ещё время посостязаться, как приедем в Багдад…
— Или Иерусалим…
— Верно, или Иерусалим. Куда-нибудь верблюды нас привезут. И вот тогда ты увидишь, каков на деле Сулейман Абу Талиб аль-Куртуби! В поэзии рядом со мной не стой, это само собой, но и в искусстве обмана я первый среди детей Сасана! Правда, толкуют ныне о некоем Наср-ад-Дине — это самый тот, что в Бухаре живёт. Коли он дорогу мне перейдёт, он этот день проклянёт. Ведь я провёл самого Абу Наиби, шайтан его зашиби! Был он первый гад на весь Багдад, а повстречался со мной — сразу стал только второй… Не нарушая наших сасанских правил, я его в фияль трижды обставил и без языка оставил… Поверишь едва ли, но мы на усечение языка играли!
— Постой, брат, — сказал монах. — Если только не подводят меня глаза, впереди кто-то идёт…
— Ну вот, — недовольно, как все внезапно разбогатевшие, скривился Отец Учащегося. — Будем теперь сочувствовать всякому нищеброду, тратить на него воду…
— Господу — что нашему, что вашему — угодно милосердие, — сказал монах и придавил верблюжьи бока пятками.
— Надеюсь, это мирадж… Аллах, пусть это будет мирадж!
Но не был это мирадж, а был это гнусный вонючий бродяга, до самых линялых бровей заросший щетиной. По сравнению с тряпьём бродяги даже рубище брата Маркольфо казалось царским облачением. А глаза у него были прямо-таки бирюзовые, самые колдовские. Его бы хлыстом по этим самым глазам, но смиренный монах сказал:
— Кто ты, добрый человек? Куда идёшь? Почему терпишь нужду?
В ответ бродяга забормотал что-то невнятное, такое невнятное, что не только монах, но и эмир языка Сулейман не смог разобрать. Тем не менее брат Маркольфо протянул бедняге свою верную баклагу.
…Судьба, судьба — и наковальня, и молот!
Жизнь всё время отвлекает наше внимание; и мы даже не успеваем заметить, от чего именно.
Франц Кафка
— И этого языка я тоже не знаю… — сокрушённо сказал Шаддам. — Никогда не предполагал, что могу оказаться в таком положении.
Уже несколько сот свитков валялись просмотренными и отброшенными за ненадобностью, когда Николай Степанович вдруг встал и начал озираться — будто увидел всё это впервые. Костя и Шаддам немедленно прекратили разбор завала и сделали по полшага к маршалу — вдруг, не дай бог, у него опять потеря памяти или там ориентации…
— Ребята, — Николай Степанович поднял палец, как бы призывая к ещё большей тишине. — А вам не кажется, что эту кучу здесь свалили не просто так? Кому-то они и до нас оказались не по зубам? А?
— Ну, точно! — сказал Костя. — Тоже искали что-нибудь знакомое. Так. Брали вот из этих шкафов… вот там, под светом, читали, сюда откидывали. Потом стали таскать по лестнице и бросать сверху… насыпать кучу…
— Попробуем заглянуть в дальние шкафы? — предложил Шаддам. Нойда молча вильнула хвостом и устремилась в указанном направлении.
В этот момент стемнело. Солнце ушло с небесного круга, уступив место облачной пелене.
— Ёшкин кот, — в сердцах сказал Костя. — Только-только начнёшь получать от работы удовольствие…
— Ничего, — сказал Николай Степанович. — Боюсь тебя огорчить, Костя, но у нас впереди вечность.
Туман и раньше появлялся на улицах с наступлением сумерек, но сейчас он как-то по-особому сгустился. Переулок, по которому они шли, странно расширился, верхние этажи домов подтаивали в дымке. Впервые за всё время — если вообще можно говорить о времени здесь — возникло эхо: звуки шагов звонко отлетали от стен. Поэтому казалось, что идут не три человека и бесшумная собака, а по крайней мере десяток, и с ними целая собачья упряжка.
Вперёд видно было шагов на тридцать, дальше всё как-то смазывалось.
— Мы не прошли поворот? — спросил осторожный Костя.
Шаддам покачал головой. Николай Степанович, считавший шаги, вздрогнул и стал оглядываться. Все остановились.
— Нойда, мы правильно идём?
Нойда не слишком уверенно кивнула. Немножко отошла и стала прислушиваться, подняв одно ухо вверх.
А потом там, впереди, раздались шаги. И в тени и тумане появилась чья-то фигура.
Нет, понял Николай Степанович через секунду. Там пустота, игра теней, не более: фигура разделилась, и то, что выше пояса, потекло наискось вправо, а ноги сделали ещё несколько медленных шажков. Остановились и с некоторым сомнением исчезли.
Но — звук шагов приближался. Теперь это были шаги кого-то большого, больше человека… обманчиво-медленного…
И снова появилась туманная фигура: волк, поднявшийся на задние лапы и достающий головой до окон второго этажа.
Нойда попятилась, зарычала. Хвост её встопорщился — как и шерсть на загривке.
Шаддам встал рядом с нею, погладил между ушами. Нойда повела лопатками, чуть расслабилась.
— Николай Степанович, Костя, — позвал Шаддам, не оборачиваясь. — Я думаю, нам всем лучше укрыться в доме. Впереди действительно что-то есть.
— Да, — сказал Николай Степанович, опускаясь рядом с Нойдой на колено. — В смысле, нет. Девочка, найдёшь дорогу? Вот сейчас, немедленно?
Нойда уставилась в землю, закрыла глаза. Николаю Степановичу послышалось, что она скрипнула зубами.
Шаги приближались.
Нойда кивнула — и бросилась назад, туда, откуда они пришли, прижимаясь к самым стенам домов. Николай Степанович кивком головы отправил вслед за ней Шаддама. Костя, он это знал, не отойдёт ни на шаг.
Туманный волк тоже расплылся бесформенными пятнами.
— Так я почему-то и подумал. — Костя сглотнул.
— Что-то есть — там, дальше, — сказал Николай Степанович. — Бегом.
Они догнали Нойду и Шаддама в момент, когда те сворачивали в глубокую арку — совершенно такую же, какие здесь во всех домах. Но эта вела не внутрь дома — за нею начинался переулок. Тот самый, по которому они сюда пришли. Из-за этой чёртовой арки они в тумане попросту проскочили поворот…
— Тихо… — сказал Шаддам. — Пожалуйста…
Все затаили дыхание.