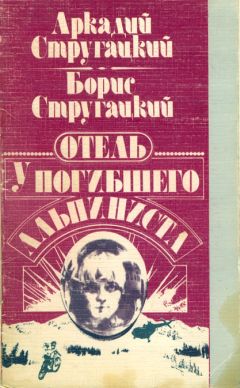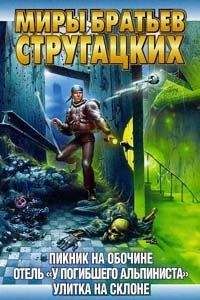— Здорово, — он мне говорит. — Тебя, — говорит, — Рыжий, по всему Институту ищут...
Тут я его так вежливенько прерываю:
— Я тебе не Рыжий, — говорю. — Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля.
— Господи, Рыжий! — говорит он в изумлении. — Да тебя же все так зовут.
А я перед Зоной взвинченный, да еще трезвый вдобавок — взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плюнул, вернул мне пропуск и уже без всех этих нежностей:
— Рэдрик Шухарт, — говорит, — вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отдела безопасности капитану Херцогу.
— Вот то-то, — говорю я. — Это другое дело. Учись, сержант, в лейтенанты выбьешься.
А сам думаю: это что еще за новости? Какого это для понадобился я капитану Херцогу в служебное время? Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже, хороший кабинет, и решетки там на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит писанину на машинке, а в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик, новый какой-то, не знаю я его. У нас в Институте этих сержантов больше, чем в дивизии, да все такие дородные, румяные, кровь с молоком, — им в Зону ходить не надо, и на мировые проблемы им наплевать.
— Здравствуйте, — говорю я. — Вызывали?
Вилли смотрит на меня как на пустое место, отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать.
— Рэдрик Шухарт? — говорит.
— Он самый, — отвечаю, а самому смешно — сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает.
— Сколько времени работаете в Институте?
— Два года, третий.
— Состав семьи?
— Один я, — говорю. — Сирота.
Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает:
— Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер сто пятьдесят.
Сержантик козырнул и смылся, а Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает:
— Опять за старое взялся?
— За какое такое старое?
— Сам знаешь, за какое. Опять на тебя материал пришел.
Так, думаю.
— И откуда материал?
Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице.
— Это тебя не касается, — говорит. — Я тебя по старой дружбе предупреждаю: брось это дело, брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают — шестью месяцами не отделаешься. А из Института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?
— Понимаю, — говорю. — Это я понимаю. Не понимаю только, какая же это сволочь на меня настучала...
Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и знай себе листает папку. Это, значит, вернулся сержант Луммер с делом номер сто пятьдесят.
— Спасибо, Шухарт, — говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров. — Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны.
Ну, я пошел в раздевалку, натянул спецовочку, закурил, а сам все время думаю: откуда же это звон идет? Ежели из Института, то ведь это все вранье, никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если телегу из полиции прислали... опять-таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, Стервятник попался? Эта сволочь, чтобы себя выгородить, кого хочешь утопит. Но ведь и Стервятник обо мне теперь ничего не знает... Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил — наплевать! Последний раз ночью я в Зону ходил три месяца назад, хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь черта меня возьмешь, я скользкий.
Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило, да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в Зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя, и послезавтра. Получалось, что я опять у этих легавых жаб на заметке, не забыли они меня, а если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже неважно, кто именно. Никакой же сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к Зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Какая, мол, Зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц! Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту?
Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в Зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделикатнее сообщить Кириллу?
Я ему сказал прямо:
— В Зону не иду. Какие будут распоряжения?
Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил: взял меня за локоть, отвел к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает:
— Что-нибудь случилось, Рэд?
Ну что я ему скажу?
— Нет, — говорю, — ничего не случилось. Вчера вот в покер двадцать монет продул — здорово этот Нунан играет, шельма...
— Подожди, — говорит он. — Ты что, раздумал?
Тут я даже закряхтел от натуги.
— Нельзя мне, — говорю ему сквозь зубы. — Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал.
Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали как у больного пуделя. Передохнул он этак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит:
— Можешь мне поверить, Рэд, я никому ни слова не сказал.
— Брось, — говорю. — Разве о тебе речь?
— Я даже Тендеру еще ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет...
Я молчу, курю. Смех и грех, ничего человек не понимает.
— А что тебе Херцог сказал?
— Да ничего особенного, — говорю. — Настучал кто-то на меня, вот и все.
Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегает, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось: вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Поманил дитятю пряником, а пряник-то в заначке, а заначку сердитые дяди стерегут... Тут он перестает бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то вбок, неловко спрашивает:
— Слушай, Рэд, а сколько она может стоить — полная «пустышка»?
Я сначала его не понял, подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает, да только где ее такую купишь, может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы: откуда у него деньги — у иностранного специалиста, да еще русского? А потом меня словно обожгло: что же это он, поганец, думает — я из-за зелененьких эту бодягу развел? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь?.. Я уже рот раскрыл, чтобы обложить его в бога, в сердце, в печень. И осекся. Потому что, действительно, а за кого ему меня еще принимать? Сталкер — он сталкер и есть, ему бы только зелененьких побольше, он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получалось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю.

![Аркадий и Борис Стругацкие - Дело об убийстве [Отель «У погибшего альпиниста»]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)