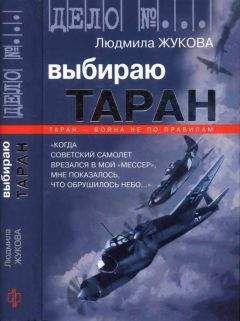— Здравствуй! — очень холодно отвечала Ефросинья и передвинула свою табуретку вдоль стола так, чтобы Дусе ловчей было укрыться от его осоловелых, но ищущих тускло-голубых глазок. — Чего тебе?
— Мне… мне Дусю, многоуважаемая Ефросинья Авксентьевна.
— Иди проспись!.. Ты же ужасно пьяный!.. — сказала Ефросинья.
— Мне Дуся требуется! — повысил голос Сашка. — Где предмет моей знойной страсти? Подайтге мне сюда мою Дуську, и я мам-мин-тально уйду-с!. Мне здесь у вас самому противно.
— Уходи, Александр! — встал со своего места Степан. — Тебя ж честью просят, как порядочного. Пойди домой, проспись, а завтра, тверезый, милости просим.
— Был; я вчерась у мадам Бычковой. Не пустили к Дусе. Говорят: работает. Ладно, прихожу сего числа. Обратно не пускают. Говорят: Дуся ушедши. Я сюда, к вам, с Казенного-с переулка, на двух, можно сказать, конках, с пересадкой, озяб как цуцик-с… Я жажду с Дусей встречи, как соловей — лета, а вы мне такое делаете некрасивое атанде!.. Где Дуська? Я кого спрашиваю?!
— Нету Дуси! Нету, нету, нету! — запальчиво крикнула Шурка, глядя на Сашку ненавидящими глазами. — Тебе папаня, велел уходить, мамка велела, а ты чего не уходишь?.. Стоишь, как тумба!.. А еще большой!..
Но Сашка все пропускал мимо ушей. Он настороженно водид своей головой на длинной бледно-розовой шее, как гадюка, которая вот-вот обнаружит свою жертву, и увидел-таки Дусю, присевшую было, к великому Шуркиному удовольствию, на корточки по ту сторону стола.
— Дусенька! — засюсюкал он, и его острая, как топор, физиономия изобразила высшую степень умиленности. — Дусенька, предметик мой прелестный!..
— Уйдите, Александр Терентьия, — попросила его Дуся, не подымаясь из-за стола. — Ну чего вам от меня надо?.. Вас же все просят уйти. — Ду-сень-ка! — игриво погрозил ей пальцем Сашка и снова чуть не полетел со ступенек. Ду-сенька-с!.. Жесто-ка-я-с!.. Ннне хоро-шо-с!.. Я к вам со всей душой-с!..
— Я кому говорю, вой! — вдруг взвился Степан и схватил с верстака молоток. — Вон говорю, пьяная твоя душа!.. Раз ты честью не понимаешь!.
— Хорошо-с! — С достоинством отвечал Сашка, упиваясь своими страданиями. Поскольку меня тут, нахально гонят, я пошел-с… Дуся, Дуся, — вдруг перешел он на «вы», — видите, Дуся, какие я за вас муки примаю? Ровно как Исус Христос, боже наш…
Не дождавшись от Дуси ответа, Сашка принял все от него зависевшее, чтобы гордо поднять голову и побогатырски расправить плечи, но из этой затеи ничего не, получилось. Он вцепился обеими руками в дверную ручку, мучительно борясь с законом всемирного тяготения, распахнул наконец дверь и не столько гордо вышел, сколько гордо из нее выпал в темноту подворотни.
— Слава богу! — облегченно вздохнула Ефросинья. — Пристанет же человек!.. Безо всякого самолюбия… Чумной какой-то!..
С минуту в подвале было тихо. Было похоже, что по крайней мере на сегодня с Сашкой покончено. Но вдруг тихо, совсем без скрипа приоткрылась дверь и в зазор просунулась топороподобная физиономия Терентьева.
— Вон! — заорал Степан таким страшным голосом, что даже Антошину, который в интересах Конопатого заставлял себя держаться в стороне от этого конфликта, стало не по себе.
Терентьев исчез. Снова стало тихо.
— Святая икона! — свирепо поклялся добрейший Степан. — Такого человека убить — большей радости нету… Его счастье, что он убег!
Всерьез его зловещей клятве поверила только Шурка. — Она испугалась, побелела:
— Папанечка, родненький! Ну его, Сашку проклято-го!.. Не убивай его, а то тебя в Сибирь засудят, на каторгу!..
— Ладно, — рассмеялся Степан, небрежно швырнул молоток на место, — раз ты просишь, не буду.
Все рассмеялись. Обстановка разрядилась. Даже Дуся, которой было совестно, что весь сыр-бор загорелся из-за нее, попробовала возобновить прежний светский разговор. Насчет весенних мод.
— Вы только представьте себе, Ефросинья Авксентьевна, — продолжала она, по-прежнему стараясь не глядеть в сторону Антошина, — прелестное такое платьице из крем-кружева на розовой подкладке. Сзади юбка образует три волана. Пояс — из широкой-широкой розовой ленты — на правом боку опускается сразу двумя концами, и те концы внизу завязаны прелестным таким бантом. А рукава-кружевные, из двух частей, и они зашнуровываются узенькой черной бархоткой, а у самого локтя заканчиваются чудненькой такой буфой из шелкового муслина!..
— Скажите пожалуйста, до чего красиво! — старательно поддерживала салонную беседу Ефросинья. Но и ее мысли, и Дусины, и Антошина, и Степана, даже Шуркины были сейчас с пропойцей Сашкой: ушел он или не ушел? Оставил ли в покое Дусю или еще нынешним вечером снова будет донимать ее своими приставаниями?
Долго гадать им не пришлось. Вскоре из-за дверей донеслись Сашкины вопли. Сашка бушевал, взывал к чьему-то сочувствию, клеймил позором всех подряд: и Дуську, и Ефросинью, и Степана, и их малолетнюю нахальную Шурку, которая тоже, представьте о себе слишком уж много понимает, хотя он ее нонешним днем леденцовым петушком одарил! Неблагодарность какая!..
Ефросинья молча накинула платок и выскользнула из подвала.
Сашка ораторствовал в полумраке. Его слушали, посмеиваясь, несколько брючников, дворник, кухонный мужик из Зойкиных меблирашек с ведром помоев в руке. При виде Ефросиньи Сашка, как опытный оратор, глубоко передохнул и приготовился выплеснуть из себя новый фонтан красноречия. Но Ефросинья обратилась к нему так спокойно, таким задушевным голосом, что Сашку приготовившегося к крикливым упрекам с ее стороны, поначалу от неожиданности взяла оторопь.
— Александр Терентьич, — сказала она ему, словно и не было всех его недавних, безобразий, — Александр Терентьич, вы ж человек взрослый, уважаемый, с образованием!.. Обратите на себя внимание. Вы же очень пьяные. Подите домой, лягте спать, проспитесь хорошенько. Завтра сами меня благодарить будете.
— Я уже вам, Ефросинья Авксентьевна, нонче очень благодарен за вашу ласку! — с пьяным ехидством ответствовал Сашка, подмигивая изо всех сил своим слушателям. — Но только какое вы имеете полное право не допущать меня до моей Дусеньки? Я же ее обожаю!.. Чего вы ее от меня прячете? Гос-по-да! — обратился он к брючникам и галантно приподнял над головой свою шапку. Господа мастеровые люди! Обратите свое внимание, оне, — он ткнул пальцем в сторону Ефросиньи, — оне не допущают меня до моей ми-лень-кой Ду-сень-ки!
Ему так невыносимо стало жаль себя, что он начал всхлипывать.
— Оставьте ее, Александр Терентьевич, в покое! — еще задушевней промолвила Ефросинья. — У нее, у бедняжечки, и так горя хватает… Пожалейте ее, ежели вы ее в самом деле любите.
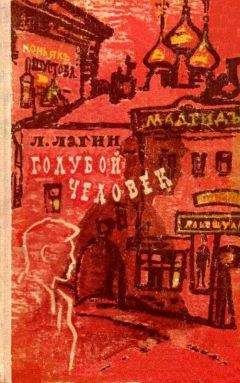
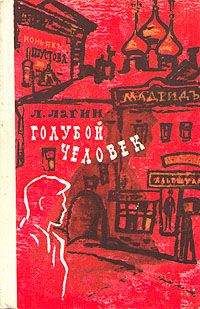
![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)